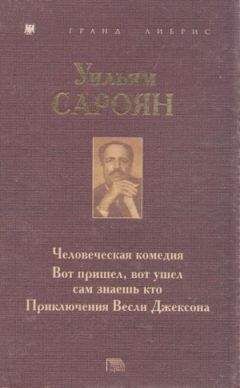Тут я подумал, что можно бы поплакать и о малых нациях, ибо на что, собственно, может рассчитывать малая нация? И я, начав с народов островных, поплакал об Исландии, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Тасмании, Мадагаскаре, потом обо всех мелких островах Тихого океана, затем о Яве, Кубе, Гаити, Кипре и, наконец, об Эллис-Айленде — ну на что могут рассчитывать народы этих островов? Потом меня потянуло на малые нации европейского материка, такие, как Греция, Финляндия, — что станется с ними? Вслед за этим я заплакал о науке, оттого что вряд ли еще кто-нибудь плачет о ней, и я плакал обо всех этих дичающих в одиночестве людях, которые упрямо смотрят в микроскоп в надежде открыть все, что доступно познанию. А после них я заплакал и о тех частицах, которые они разглядывают в микроскоп, ибо из этих частиц складывается все на свете, и так же важно и так же естественно плакать о прыгающей молекуле, как и обо всем остальном, что прыгает.
Ну а поскольку я снизошел до мельчайших вещей, я решил, что мне нужно поплакать также и о величайших, и я пролил слезу обо всем мироздании, обо всех его неведомых тайнах — всех этих миллионах лет времени и света, — и это были самые утешительные слезы из всех.
Немного погодя я перестал плакать, высморкался и заново перечел напечатанное в «Нью рипаблик» письмо, которое я сам написал, но слез оно во мне больше не вызвало, потому что я понял, что в конце концов — не все ли равно, писатель я или нет.
Итак, я стал писателем, но, кроме этих бурных слез, что я пролил, я ничем не отличался от того, каким я был раньше, жалко вот только было Вудро Вильсона, уж очень неудачно сложились у него дела.
Глава тридцать третья
Весли читает в «Нью рипаблик» письмо, которое он написал своему отцу
Вот что я написал отцу той ночью в вестибюле гостиницы и что прочел потом в «Нью рипаблик».
«Бернарду Джексону. Хотя я не знаю, где ты сейчас и дойдет ли это письмо до тебя, я решил тебе написать, потому что ты в беде и я тоже. Я никогда не считая, что должен проявлять к тебе преданность, или гордиться тобой, или что-нибудь там еще, что полагается испытывать хорошим сыновьям по отношению к своему отцу. Ты мой отец, а я твой сын, и этим все сказано, а хороший или плохой — это дело десятое. Наверное, иные люди считают тебя человеком безвольным, оттого что время от времени ты по своей привычке пускаешься в бега, как сделал это и теперь, и пьешь запоем, из-за чего бы ты ни ушел из дому. Но я-то думаю, что это не так, что не по слабости характера ты это делаешь. Мне кажется, что все это просто необходимо тебе по твоей природе.
Зачем же тогда я тебе пишу? А пишу я тебе затем, что, кажется, пора мне попробовать наверстать в своей жизни то, что упущено тобой, — помнишь, ты недавно мне говорил, что рассчитываешь в этом на меня. Много произошло с тобой в прошлую войну такого, о чем я и догадаться не могу, ибо ни один человек не может угадать, что ведомо другому, даже если он сын этого другого. Однако из того, что ты мне рассказал, я вижу, что худшее случилось не с телом твоим — физически ты по-прежнему крепче многих других, — а с тобой как человеком; не с нервами, не с разумом, не с сердцем, не с духом твоим — а с тобой, с твоим собственным „я“. Я знаю, ты чувствовал и чувствуешь до сих пор, что война грубо над тобой надругалась, — над тобой как личностью, — ты и сейчас это чувствуешь. И мысль о том, что мне тоже придется пройти через все это, приводит тебя в ужас, ибо ты надеялся, что хоть у меня все сложится благополучно — за нас обоих. Ты рассчитывал, что у меня будет сын, чтобы было кому передать эстафету, и я тоже на это рассчитываю. Ты говорил мне, что стремился выжить в прошлой войне только ради одного: чтобы увидеть меня. Так вот, я хочу, чтоб ты знал, что я тоже решил сделать все от меня зависящее, чтобы остаться в живых и увидеть своего сына. Я думаю, ты не очень-то возмутишься, когда узнаешь, что, приняв это решение, я превратился физически в труса, потому что так оно и есть. Чтобы увидеть когда-нибудь своего собственного сына, я охотно сделаюсь трусом. Мысль о физической трусости дьявольски страшит большинство ребят в армии, но меня она не пугает. Вот если бы я вдруг обнаружил, что не желаю или неспособен представить себе, что по тем или иным причинам и при известных обстоятельствах я вправе отказаться от готовности умереть, тогда бы я действительно устрашился. Я решительно не хочу быть убитым — ни за что! Честно скажу: пускай, как говорится, погибнет цивилизация, лишь бы я сам жив остался. Клянусь богом, я уверен, что цивилизация — это я. Какого черта беспокоиться, что что-то там рушится, если я сам останусь целехонек. Я уверен, что всякий честный человек в армии думает в душе то же самое. Я знаю, я мог бы пойти на смерть, не задумываясь, — в защиту правды и справедливости, например, — но я не думаю, что, будь я убит, это помогло бы спасти цивилизацию. Это было бы просто чертовски глупо с моей стороны. Если я должен погибнуть во имя спасения цивилизации, почему же все другие не должны погибнуть вместе со мной? А раз это невозможно, то пусть я останусь в живых, или пусть погибнет цивилизация или же, наконец, пусть введут такой общественный порядок, при котором не потребуется, чтобы ты, потом я, а потом и мой сын шли и умирали.
Для тебя наступила счастливая пора — все ужасы для тебя позади, — и я рад за тебя. А для меня деньки пришли тяжелые — я попал в западню. Та же самая давнишняя машина, которая когда-то тебя захватила, выжала все соки и выкинула, теперь захватила меня и собирается проделать со мной то же самое или еще что-нибудь похуже, только я ни за что не хочу поддаваться. Ты-то заполучил себе сына, это что-нибудь да значит, а у меня еще нет моего, и мне он чертовски нужен. Ты говоришь, нет такого места на свете, где бы человек мог жить спокойно и растить сыновей, — вся земля захвачена этой проклятой машиной и не может освободиться. Наверное, ты прав, отец. У нас с тобой не хватает денег купить себе свой собственный мир, обнести забором и жить. Будь у нас достаточно денег, мы могли бы создать свое собственное государство и учредить свое собственное правительство, удовлетвориться своими двумя акрами земли и своей двухкопеечной культурой, но я думаю, это хорошо, что у нас нет денег, ибо на это денег ни у кого недостанет, а если никто не в состоянии этого сделать, не стоит и нам этим заниматься. Так что же нам все-таки делать? Как нам распорядиться самими собой? Я хочу сказать, каким образом сможем мы „стать людьми“, как ты толковал мне об этом, если обстоятельства просто не позволяют? Видишь ли, не знаю, как ты, но если ты в самом деле хочешь, чтобы из меня вышел Бернард Джексон улучшенного образца, то, мне кажется, я должен придумать, как избавиться от этой ужасной машины и стать Человеком, независимо от того, как сложатся обстоятельства.
Как было бы хорошо, если бы ты был сейчас здесь и я, вместо того чтобы писать весь этот вздор, мог бы выпить с тобой пару стаканчиков. Теперь, когда я знаю, почему…»
Глава тридцать четвертая
Весли возвращается в Нью-Йорк, где встречается с Виктором Тоска, который только что вернулся из Рочестера со своей философией, с подарком и кое-какими записями
И вот желанный день настал; мы все — писатель, Джо Фоксхол и я — возвратились в Нью-Йорк. Дня через два после этого вернулся из фоторемонтной школы в Рочестере Виктор Тоска и спросил, не нужно ли мне починить фотографический аппарат. Он рассказал, что его учили делать мелкий ремонт сложных аппаратов и крупный ремонт простых, но он не мог понять, зачем его обучали подобной ерунде, когда по-настоящему он интересуется только йогами. Я подумал, не хватил ли он лишнего, и я оказался прав.
Он рассказал, что познакомился в Рочестере с одним человеком, который окончил Гарвардский университет и увлекался открытиями в области таинственных сил бытия. Этот человек был простым рядовым, но это не мешало ему просиживать в различных йоговских позициях все свободное время и пытаться приобщить своих товарищей по военной школе к тайнам, которые он познал. Виктор, по его словам, освоил больше учение йогов, чем ремонт фотоаппаратов. Тот человек говорил, что фотоаппараты приходят и уходят, а йоги остаются навеки. Фамилия его была Олсон, он был из богатой семьи. Родители его жили в Бостоне, рассказывал Виктор, но Олсон предполагал после войны уехать в Индию, чтобы продолжать свои занятия. Он утверждал, что когда-нибудь непременно постигнет истину. Он говорил, что постарается навсегда развязаться с Америкой после войны, так как Америка становится слишком богатой и могущественной для него. Он стремился к истине, а не к деньгам; к равновесию, а не к власти.
Перед тем как вернуться в Нью-Йорк, мы с Виктором списались и договорились снять наши прежние комнаты в «Большой Северной», которая была для нас как дом родной, и так мы и сделали. Виктор приехал в гостиницу прямо с вокзала, так как было бы глупо являться в часть в десять вечера. Всю дорогу с вокзала он потягивал из бутылки и давал приложиться и мне. Дома, разбирая багаж, он то болтал об этом последователе йогов, Олсоне, то принимался напевать «Все зовут меня красавчик», — и в конце концов разбросал свои вещи по всей комнате.