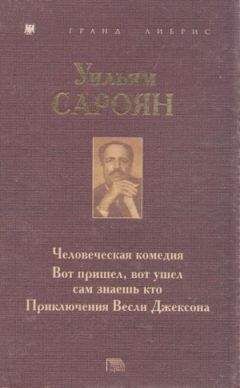Целую неделю я получал от папы письма каждый день. Он писал — я, дескать, наверно, пойму, что он хочет сказать, говоря, что мой брат Вирджил куда лучше нас обоих благодаря маме.
«Мы с тобой слишком долго жили в стороне от женской половины рода человеческого, а ведь на них держится мир, так что ищи скорей свою девушку».
Как-то раз отец мне прислал полдюжины фотокарточек, где мама, брат Вирджил, дядя Пил и он сам были сняты в группе. Меня поразило, как молодо и красиво все они выглядят, несмотря на то, что никто из них не улыбался, как это делает почти каждый, когда снимается на карточку, но особенно я был взволнован тем, как выглядит отец рядом с мамой и Вирджилом. У него был такой вид, будто ничего и не случилось, будто он был с ними всегда. Я ему так и написал и просил его рассказать мне все про маму, и Вирджила, и дядю Нила. Я был счастлив, как никогда в жизни, и показал фотокарточки моей семьи писателю, а потом мы с ним сидели и толковали о нашем дезертире и никак не могли решить, что же нам с ним все-таки делать.
— Если бы нас перевели в другую часть, — сказал я, — нам бы не пришлось писать сценарий о дезертире, правда?
— Нет, нет, не пришлось бы, — сказал писатель.
— А вам бы хотелось вернуться в Нью-Йорк?
— Ну да, конечно. Нью-Йорк — это родина моя и жены, и мы хотели бы, чтобы наш сын тоже родился там.
— Ваш сын? Откуда вы знаете, что это будет сын?
— Это наш первенец, и это будет сын, — сказал писатель.
Я спустился вниз в производственный корпус, чтобы узнать у Джо Фоксхола, хочет ли он тоже перебраться с нами в Нью-Йорк. Работа была у него вроде моей благодаря его высокому культурному уровню и образованию: он печатал для писателей на машинке и был у них на побегушках. Я встретил его с шестью бутылками кока-кола в руках — по числу писателей.
— Джо, — сказал я, — срок моего пребывания здесь истекает через неделю, и я…
— Это ты так думаешь, — сказал Джо. — Никуда ты не уедешь, и не мечтай. Увольнений от этой войны не предвидится.
— Екклесиаст, — сказал я. — Увольнений, может, не будет, но есть такая вещь, как откомандирование. Хочешь, тебя откомандируют обратно в Нью-Йорк вместе со мной?
— Я уже подумывал о том, чтобы спросить у тебя разрешения позвонить этой женщине, — сказал Джо. — Я хотел ее просить вызволить меня к черту из армии. А то я скоро запущу кому-нибудь в голову одной из этих бутылок.
— Не думаю, чтобы кто-нибудь мог тебя вызволить из армии, — сказал я. — Но очень вероятно, что удастся отправить тебя обратно в Нью-Йорк, если тебе охота снова оказаться среди тамошней публики.
— Да ведь здешняя ничуть не лучше, — сказал Джо. — Тебе нужен мой порядковый номер?
— Он есть у меня.
— Ну что ж, хорошо, — сказал Джо. — Большое тебе спасибо. Как ты думаешь, когда мы будем знать?
— Где здесь телефонная будка?
Джо показал мне телефонную будку. Я взял у него бутылку кока-кола, вошел в будку и закрыл дверь, а Джо стоял снаружи, пил из другой бутылки и ждал. Моя знакомая очень обрадовалась, что я позвонил, так как она уже уладила все свои дела — продала дом со всем, что в нем было, — и скоро собиралась уехать.
— Когда? — спросил я.
— Как только устрою все и для вас тоже.
— Куда вы едете?
— В Нью-Йорк ненадолго, потом домой, в Сан-Франциско. Сейчас я позвоню своему приятелю, а потом сразу вам. Никуда не уходите.
Я вышел из будки, и мы с Джо выпили еще по бутылке кока-кола, и тут же зазвонил телефон.
— Все в порядке, — сказала она. — Всех троих — в течение недели.
Она дала мне название одного из крупнейших и самых дорогих отелей в Нью-Йорке и свою настоящую фамилию — не ту, что стояла на карточке.
— Я не знал, что вы замужем, — сказал я.
— Господи боже мой, — отвечала она. — У меня сын в школе в Мэриленде и дочь тоже в школе в Пенсильвании. Муж умер вот уже десять лет. Позвоните мне, когда приедете в Нью-Йорк. Если я еще буду там, мы с вами пойдем куда-нибудь танцевать.
— Я не умею танцевать.
— Ну посмотрим, как танцуют другие. Если же вы меня не застанете, спросите мой новый адрес и пишите мне иногда — я хочу знать, как ваши дела.
— Ладно, — сказал я. — Что вы думаете делать в Сан-Франциско?
— Читать, — сказала она. — Я люблю читать. Ну, берегите себя.
— Ладно, — сказал я.
Я вышел из будки, и Джо сказал:
— С чего это ты расплакался?
— Ничего, пустяки, — сказал я. — Попробуй покури в тесной будке, и у тебя слезы потекут.
Глава тридцать первая
Весли в первый раз видит свое имя напечатанным в журнале и не знает, как к этому отнестись
Я поднялся обратно в гору, чтобы сообщить новость писателю. Он сидел за своим столом и просматривая свежие журналы, только что им полученные.
Я думаю, через недельку мы будем в Нью-Йорке. — сказал я. — Джо Фоксхол, вы и я.
— Раз вы говорите, — сказал писатель, — значит, так и будет.
Он протянул мне журнал, который просматривал, — это был «Нью рипаблик». Он ничего не сказал, но я понял, что он хочет, чтобы я в нем что-то прочел. От того, что я увидел наверху на левой странице, меня бросило в пот: «Письмо отцу». Я прочел только первые несколько слов и сразу узнал письмо, которое я написал отцу, когда он сбежал; это письмо я кинул тогда в корзину. В конце письма стояло мое имя.
— Я не имел права этого делать, — сказал писатель, — но тем более не имел права не сделать этого. Я случайно полез в корзинку в поисках конверта, на котором записал одно название для рассказа, и обнаружил ваше письмо к отцу. Я послал его в журнал, но вам ничего не сказал, так как не был уверен, что редакция согласится его напечатать. Если бы мне его вернули, я бы попробовал в каком-нибудь другом журнале, но, как видите, его напечатали — редакция согласилась со мной. Они прислали мне письмо, где спрашивают о вас и высказывают желание познакомиться со всем, что вы уже написали или что вам случится написать в будущем. А я им отвечал, чтобы пока не упоминали ваше имя среди сотрудников журнала, так как полагал, что вы им расскажете о себе сами, когда они в следующий раз напечатают что-нибудь ваше. Надеюсь, вы не очень расстроены…
— Не то что расстроен, — сказал я, — но как быть с отцом? Ведь это письмо написано ему, а я решил его не посылать, чтобы, ну, его не обидеть.
— Думаю, он поймет, — сказал писатель. — Письмо это не только ему одному, ведь так? И не только от вас одного, правда? Так всегда бывает с писателем. Это хорошо, но это и плохо; но плохо ли это или хорошо, а все, что вы ни пишете, это все для читателя. Я так же в этом уверен, как и в том, что все, что ни пишу я сам, — это тоже для читателя. Я знаю, что поступил чертовски бесцеремонно, но думаю, что сделал правильно, а когда вы прочтете письмо до конца, надеюсь, вы со мной согласитесь.
Я взял журнал, сел за свой стол и прочитал письмо от слова до слова, а потом прочел еще раз, потому что никак не мог опомниться. Это было точно то, что я тогда написал, слово в слово, только я почти все успел позабыть — я был злой и усталый, когда это писал, — а теперь, когда я прочел это в журнале — эту вещь, которую никак не ожидал увидеть когда-нибудь снова, — так вот, все вышло так, как говорил писатель: будто не я писал письмо отцу, а будто кому-то нужно было высказаться, и он это сделал. Я обливался потом, без конца курил и чувствовал, что я не то заболел, не то схожу с ума — и каждый раз, как я видел свое имя в конце письма, все никак не мог понять, что случилось.
Странное чувство охватило меня: какое-то особенное, новое одиночество и масса разных других ощущений. Кто я такой, чтобы писать? Имею ли я право на это? И если я могу писать вещи вроде этой — значит, могу написать и кучу других вещей. Хочу ли я быть писателем? Хочу ли отличаться от других и видеть вещи по-своему, и запоминать то, что вижу, и писать обо всем без конца? И как это выйдет у меня — по-серьезному, или я только смешное буду видеть во всем? В самом деле, отличаюсь ли я чем-нибудь от других? Писатель, который был со мной, казалось бы, ничем от других не отличается. По нему не видно было, чтобы он все время наблюдал и запоминал окружающее. То, что он писатель, ничуть его, казалось бы, не тяготит.
Не знаю, что это вдруг со мной случилось, только я разревелся. И я плакал не про себя, как это бывает, когда хочешь удержаться от слез. И не так я плакал, когда можешь скрыть все, кроме слез, которые заливают глаза. Я ревел по-настоящему, навзрыд, но прежде я вышел из здания и убежал в поле, под купу деревьев, где никто не мог меня видеть.
Глава тридцать вторая
Весли проливает горючие слезы, соблюдая, однако, известный порядок
Сначала, надо думать, я заплакал оттого, что я писатель и ничего уж тут не поделаешь, а потом уж стал плакать заодно обо всем, о чем только когда-нибудь плаката люди.