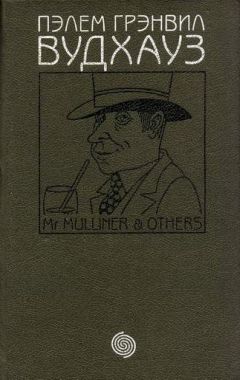— А вот ты похож.
Игнатий побежал в «Козла и бутылку» немного утешиться и тут же увидел другого брата Гермионы.
— Привет! — сказал Джордж. — Привет, привет, привет!
— Джордж, — сказал Игнатий, — ты, часом, не знаешь, почему твоя сестра меня не любит?
— Как же, знаю, — ответил Джордж.
— Знаешь?
— Да.
— Почему же?
— Сказать прямо?
— Говори.
— Ну ладно, только одолжи мне фунтик до пятницы.
— Нет.
— Не одолжишь?
— Ни в коем случае. Вернемся к нашей теме. Почему Гермиона мне отказывает?
— Потому, — отвечал Джордж, — что ты похож на Сиприана.
Игнатий пошатнулся.
— На Сиприана?
— Она так считает.
Вернувшись к себе, Игнатий стал размышлять. Чтобы облегчить себе дело, он составил такой список:
Джордж: Сиприан:
Похож на свинью. Похож на верблюда.
Прыщи. Бакенбарды.
Ничего не делает. Пишет об искусстве.
Говорит: «Привет!» Говорит «мы», как врач какой-нибудь.
Жутко хохочет. Мерзко хихикает.
Жрет. Питается фруктами.
Рассказывает анекдоты. Читает стихи.
Руки — толстые. Руки — тонкие.
Тайна оставалась тайной. Он нахмурился; и вдруг прозрел:
Курит, как паровоз. К., как п-з.
Вот она, разгадка! Возможно ли?.. Да, конечно.
Любовь к Гермионе, звезда его жизни, стала лицом к лицу с другой любовью. Неужели надо поступиться трубкой? Способен ли он на эту жертву? Он заколебался.
И тут все одиннадцать фотографий Гермионы Росситер подбодряюще улыбнулись ему. Он решился. Мягко вздохнув, как вздыхает русский крестьянин, бросая сына волкам, бегущим за санями, он вынул трубку изо рта, взял табак, взял сигары, аккуратно все завернул и отдал приходящей служанке для ее мужа — человека очень достойного, но небогатого.
Игнатий Маллинер бросил курить.
Те, кто бросал курить, прекрасно знают, что поначалу муки не так уж велики, потому что тебя распирает гордыня, похожая на веселящий газ.
Весь следующий день Игнатий смотрел со снисходительной жалостью на курящих людей, ощущая при этом то, что ощущает святой аскетического типа. Ему хотелось сказать заблудшим, что табак содержит окись углерода, которая, входя в непосредственный контакт с красными кровяными шариками, лишает их способности поставлять тканям кислород. А пиридин, а раздражение слизистых оболочек? Да что там, курение — пагубная привычка, от которой сильный человек может отказаться, как только захочет.
Следующая фаза началась тогда, когда он вернулся в мастерскую.
Завтрак художника (две сардинки, остаток ветчины, бутылка пива) сменился странной пустотой, какую испытал Гиббон, закончив «Упадок и разрушение Римской империи». Жизнь лишилась смысла, и, мыкаясь по мастерской, мой племянник думал, что бы ему такое сделать. Иногда он пускал небольшие пузыри, иногда — лязгал зубами. Трубки между ними не было.
Снедаемый сумеречной тоской, он взял свое укелеле и поиграл песню «Старик — река», но лучше ему не стало. Однако он открыл причину: какая может быть радость, если ты не творишь добро?
Мир печален и угрюм, это ясно. Что отсюда следует? Если мы предадимся наслаждениям, мы увидим, что они пусты. Ветчина утратила свои чары, укелеле — свою прелесть. Конечно, есть трубка — но мы не курим. Так что остается добро. Короче говоря, к трем часам Игнатий Маллинер достиг третьей фазы — всерастворяющей жалости, которая и погнала его на Скэнтлбери-сквер.
Шел он туда не для того, чтобы жениться на Гермионе Росситер. Нет, из отдельных замечаний он давно вывел, что хозяйка дома хотела бы получить ее портрет, но оставался глух. Любовь — это любовь, но и художник — это художник, он не любит писать даром. До сей поры художник побеждал.
Теперь все изменилось. Коротко, но выразительно Игнатий сообщил леди Росситер, что больше всего на свете хочет написать ее дочь. За такую великую честь он, естественно, денег не возьмет, а потому — ждет их с Гермионой завтра в одиннадцать утра.
Он чуть не предложил написать и саму леди Росситер в вечернем платье с бельгийским грифоном, но удержался, зато потом, на улице, об этом горевал.
Снедаемый угрызениями, он решил пригласить Сиприана, чтобы тот высказал мнение о новой картине, а после отыскать дорогого Джорджа и одолжить ему денег. Через десять минут он был у критика.
— Чего, чего мы хотим? — недоверчиво переспросил тот.
— Мы хотим, — повторил Игнатий, — чтобы ты пришел ко мне завтра с утра и сказал, что ты думаешь о новой картине.
— Мы не шутим? — уточнил Сиприан, которого приглашали нечасто, а выгоняли из мастерских—очень много раз.
— Что ты, что ты! — заверил его Игнатий. — Мы хотим узнать мнение знатока.
— Значит, буду в одиннадцать, — сказал Сиприан. И племянник мой побежал в «Козла и бутылку».
— Джордж! — воскликнул он там. — Мой дорогой! Я ночь не спал, думал, есть ли у тебя деньги. Если нет, возьми у меня.
Глаза над пивной кружкой просто полезли на лоб. Побледневший Джордж опустил кружку, но поднял руку.
— Все, — сказал он. — Бросаю пить. Слуховые галлюцинации.
Игнатий ласково похлопал его по плечу.
— Нет, мой дорогой, — ответил он, — это тебе не мерещится. Можешь верить своим ушам.
Джордж поверил им (заметим, что они были большими и красными), но все же не успокоился.
— Ты предлагал мне денег?
— Да.
— Денег???
— Вот именно.
— Я не писал, я ничего не говорил, а ты?..
— Ну, конечно!
Джордж глубоко вздохнул и снова поднял кружку.
— Вот теперь пишут, чудес не бывает, — сказал он. — Какая чушь! Что там — бред, — сурово прибавил он. — Сколько, фунт?
Игнатий укоризненно поднял брови.
— Так мало? — мягко удивился он. Джордж побулькал и спросил:
— Пять?
Игнатий с мягкой укоризной покачал головой.
— Оставь эти мелочи, Джордж, — посоветовал он. — Бери шире. Мысли масштабней.
— Неужели десять?
— Я бы сказал, пятнадцать, — поправил его мой племянник. — Если не больше.
— Вот это да!
— Что ж, прекрасно. Приходи завтра ко мне с утра, так… в одиннадцать.
Сияя благожелательностью, он похлопал Джорджа по спине, а через несколько часов, ложась в постель, сказал самому себе: «Сотворивший добро заслужил ночной отдых».
Как все, кто живет напряженной жизнью духа, Игнатий спал крепко. Обычно он, проснувшись, долго лежал в полузабытье, пока его не пробуждал манящий запах жареной грудинки. Однако в то утро, открыв глаза, он ощутил необычайную резвость. Иными словами, он достиг той фазы, когда пациент начинает нервничать.
Исследовав свои чувства, он понял, что нервы разгулялись. Кошка что-то свалила в коридоре, он взвился и крикнул было служанке, миссис Перкинс: «Да уберите вы ее!», когда она (служанка, не кошка) появилась пред ним, сообщая, что готова вода для бритья. Взвившись уже к потолку белым коконом простынь, он трижды перевернулся в воздухе и опустился на пол, дрожа, как перепуганный мустанг. Сердце его завязло в гландах, глаза совершенно вылезли.
Когда разум вернулся на свой престол, Игнатий тихо заплакал, но вспомнил, однако, что он — Маллинер, побрел в ванную, встал под душ и немного очухался. Помог и обильный завтрак, так что он совсем пришел в себя, но тут заметил, что нет трубки, и снова впал в меланхолию.
Долго сидел он, закрыв лицо руками, впивая все скорби мира. Вдруг что-то изменилось. Минуту назад он жалел людей так, что сердце лопалось, — и вот он ощутил, что ему на них наплевать; мало того, он терпеть их не может. Зайди к нему кошка, он бы пнул ее ногой. Зайди миссис Перкинс, он бы шлепнул ее муштабелем. Но кошка ушла отдохнуть на помойку, миссис Перкинс пела на кухне псалмы. Игнатий кипел, как закрытый котел. Невесело усмехаясь, он поджидал, не появится ли живое существо.
Именно тогда, словно верблюд в оазисе, в дверях показался Сиприан.
— Здравствуй, дорогой мой, — заметил он. — Можно войти?
— Давай входи, — отвечал Игнатий.
При виде бакенбард, а главное — черного носка, который дважды обвивал шею критика, вдвое умножая его мерзостность, племянник мой впал в необыкновенное, болезненное волнение, словно тигр, завидевший служителя с грудой мяса. Медленно облизнувшись, он мрачно глядел на Сиприана. Над постелью висел дамасский кинжал в роскошных ножнах. Он снял его, вынул и попробовал о палец.
Критик тем временем рассматривал картину сквозь монокль в черной оправе. Подвигав вдобавок головой и поглядев сквозь пальцы, он издал те специфические звуки, которые издают критики.
— Мда-ммм, — проговорил он. — Хммм… Хрффф! Есть ритм… да, ритм, ничего не скажешь… но можем ли мы признать, что это — искусство? Нет, не можем.
— Нет? — переспросил Игнатий.