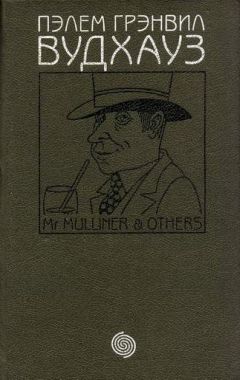— Нет? — переспросил Игнатий.
— Нет и нет, — подтвердил Сиприан, поигрывая левой бакенбардой. — Где жизнь? Где налет вечности?
— Нет? — уточнил Игнатий.
— Ни в малейшей мере.
Поиграв с другой бакенбардой, Сиприан прикрыл глаза, откинул голову, задвигал пальцами и что-то прогудел, как бы понукая лошадь.
— Жизнью поступаться нельзя, — сообщил он. — Палитра — это оркестр, художник — дирижер. Краска должна быть плотной, должна быть весомой. Фигура на холсте должна дышать, что там — бодрствовать. Тогда и возникнет жизнь. Что до налета вечности…
Может быть, он знал, что о нем сказать, но его прервал тот звук, какой издает леопард, подкравшийся к добыче. Обернувшись, он увидел, что художник идет к нему, криво и неприятно улыбаясь. Глаза его сверкали, в правой руке он сжимал клинок с искусно украшенной рукоятью.
Критик, побывавший во многих мастерских, приучился действовать быстро. В один миг увидел он, что дверь закрыта, а между ним и нею — хозяин, и мгновенно юркнул за мольберт. Несколько минут художник и критик метались по обе стороны мольберта, и только с двенадцатого выпада Сиприан был ранен в руку.
Другой бы сдался, потерял голову — другой, но не он. Многоопытный критик два дня назад буквально измотал одного из лучших анималистов, больше часа гонявшегося за ним с настоящей дубинкой.
Сохранив спокойствие и обретя дополнительную резвость, он перескочил в шкаф, как истинный стратег, которым и должен быть критик, если он общается с художниками.
Игнатий покачнулся и не сразу обрел равновесие. Выпутавшись из циновки, он бросился к шкафу. Ручка не поддавалась. Сиприан держался, пока его враг не отступил.
Отступив, художник побрел обратно, взял укелеле, поиграл «Старика» и как раз дошел до «Никто не скажет — видно, что-то знают», когда дверь отворилась и в ней появился Джордж.
— Привет! — заметил он.
— Р-р-р. — ответил Игнатий.
— Что значит «р»? — осведомился гость.
— То и значит, — отвечал хозяин.
— Я насчет денег.
— Р-р-р!
— Двадцать фунтов, помнишь? Лежу сегодня и думаю: «А почему не двадцать пять?» Такая круглая цифра.
— Р-р-р!
— Что ты заладил «р» да «р»? Игнатий гордо выпрямился.
— Моя мастерская, — сказал он. — Что хочу, то говорю.
— Конечно, старик, конечно, — заторопился Джордж. — Эй, привет! Шнурок развязался. Завяжу-ка я его, а то и упасть можно. Прости, минуточку.
Он наклонился, Игнатий примерился получше, раскачал правую ногу и смело метнул ее вперед.
Тем временем леди Росситер и дочь ее Гермиона, завернув за угол, подошли к дверям мастерской. На лестнице они остановились, ибо мимо что-то пролетело, по-тюленьи пыхтя.
— Что это? — вскричала леди Росситер.
— Да, странно, — согласилась Гермиона. — Такое тяжелое… Надо спросить мистера Маллинера, не уронил ли он чего-нибудь.
Когда они вошли в мастерскую, Игнатий стоял на одной ноге и потирал пальцы другой. По рассеянности, присущей художникам, он забыл, что еще в домашних туфлях. Однако, несмотря на боль, вид у него был такой, какой бывает у человека, поступившего правильно.
— Доброе утро, — сказала леди Росситер.
— Доброе утро, — сказала Гермиона.
— Добррр утрррр, — сказал Игнатий, с отвращением глядя на них. Теперь он понял, что хуже всех в семье — не братья, а именно сестра, и быстротечная радость сменилась горчайшей скорбью. Мы не смеем вообразить, что случилось бы, наклонись в этот миг Гермиона.
— Вот и мы, — сказала леди Росситер.
Шкаф тихонько приоткрылся, оттуда выглянуло бледное лицо. Взметнулась пыль, раздался свист рассекаемого воздуха, что-то вылетело в дверь — и она захлопнулась.
Леди Росситер, тяжко пыхтя, прижала руку к сердцу.
— Что это? — спросила она.
— Мне кажется, Сиприан, — предположила Гермиона.
— Ушел! — закричал Игнатий, выбегая на лестницу. Когда он вернулся, кривясь от горя, леди Росситер думала о том, что два психиатра пришлись бы очень кстати, но не огорчалась — безумный художник ничуть не хуже разумного.
— Ну что же, — приветливо сказала она. — Гермиона готова позировать.
Игнатий очнулся.
— Кому?
— Вам, для портрета.
— Какого?
— Своего.
— Вы хотите заказать портрет?
— Вы же вчера предлагали…
— Да-а? Возможно, возможно. Ну что ж, выписывайте чек, пятьдесят фунтов. Книжку не забыли?
— Пятьдесят?
— Гиней. Точнее, сто. Пятьдесят — это задаток.
— Вы же сами хотели ее писать…
— Даром?
— Д-да…
— Очень может быть, — согласился Игнатий. — Видимо, вы лишены чувства юмора. Не понимаете шуток. Моя цена — сто гиней. Собственно, почему вам нужен ее портрет? Черты лица — неприятные, колорит —. тусклый. Глаза — глупые, подбородка — нет, уши — торчат. Смотреть, и то тяжело, а тут — пиши! Прибавим за вредность.
Сказав все это, он принялся искать трубку, но не нашел.
— О Господи! — кричала тем временем мать.
— Повторить? — осведомился художник.
— Где мои соли?!
Игнатий пошарил по столу, открыл оба шкафа, заглянул под кушетку. Трубки не было.
Маллинеры учтивы. Заметив, как сопит и клекочет гостья, племянник мой догадался, что чем-то ее обидел.
— Может быть, — сказал он, — я вас чем-то обидел. Тогда — простите. От избытка сердца глаголят уста. Очень уж мне надоело ваше семейство. Сиприана я чуть не заколол, но он для меня слишком прыток. Не будут заказывать статьи, пусть идет в русский балет. С Джорджем вышло лучше. Он мимо вас не пролетал?
— Ах, вот что это было! — обрадовалась Гермиона. — То-то я думала…
Леди Росситер, тяжело дыша, смотрела на него.
— Вы ударили мое дитя!
— Прямо в зад, — скромно, но гордо уточнил Игнатий. — С одного раза.
Несчастная с жалобным криком кинулась вниз по лестнице. Истинно говорят, что мать — лучший друг сына.
Гермиона глядела на Игнатия незнакомым взглядом. — Я и не знала, что вы так красноречивы, — наконец сказала она. — Как вы меня описали! Поэма в прозе. Игнатий что-то промычал.
— Вы вправду все это думаете? — продолжала она.
— Да.
— Значит, я тусклая? Может быть, желтая?
— Зеленоватая, — уточнил он.
— А глаза?.. — Она замялась.
— Вроде устриц, — подсказал художник. — Не первой свежести.
— Словом, вам не нравится моя внешность?
— Ни в малейшей степени.
Дальше он не слушал, хотя она что-то говорила. Недавно, вспомнил он, какой-то гость уронил за бюро недокуренную сигару. Служанки там не убирают, так уж у них повелось, а значит — он кинулся туда и едва не задохнулся от восторга.
Окутанная пылью, погрызенная мышью, это была сигара.
Настоящая, вполне пригодная, набитая окисью углерода. Игнатий чиркнул спичкой и закурил.
В тот же миг млеко незлобивости хлынуло в его душу. С той быстротой, с какою кролик превращается в буфет, флаг или аквариум, Игнатий превратился в смесь сладости и света. Пиридин коснулся слизистых оболочек, и они приняли его как брата. Радость, восторг, блаженство сменили злобу и скорбь.
Игнатий взглянул на Гермиону. Глаза ее сияли, прекрасное лицо светилось. Судя по всему, он ошибся, тусклой она не была — напротив, превосходила красотой все, что только вдыхало блаженный воздух Кенсингтона.
Гермиона тоже смотрела на него, словно чего-то ожидая.
— Простите? — сказал Игнатий. Она покачала головой.
— Что ж вы?.. — начала она.
— Простите? — повторил он.
— Ну, не обнимаете меня… и вообще… — ответила она, зардевшись.
— Это я? — проверил он.
— Кто же еще?
— Не обнимаю?
— Вот именно.
— А… вы… — хм-мм — этого хотите?
— Конечно.
— После — э-а… — всего, что я наговорил? Она удивленно взглянула на него.
— Разве вы не слушали?
— Да, отключился… вы уж простите, — забормотал он. — А что?
— Я сказала: если вы меня так видите, вы любите не мою внешность, а мою душу. Как я этого ждала!
Игнатий положил сигару и часто задышал.
— Минуточку, — сказал он. — Так и вы меня любите?
— Конечно, люблю, — отвечала она. — Вы мне всегда нравились, но я думала, для вас я — просто кукла.
Он снова взял сигару, затянулся для верности, сделал все, как она сказала, и затянулся еще раз.
— Кроме того, — продолжала Гермиона, — как не любить человека, который одним пинком спустил Джорджа с лестницы?
Игнатий опечалился.
— Ах, вспомнил! — сказал он. — Сиприан говорит, что ты говоришь, что я похож на Джорджа.
— Неужели передал?
— Да. Мне было очень тяжело.
— Почему? Просто вы оба играете на укелеле. Игнатий снова ожил.
— Сегодня же отдам бедным. А Джордж сказал, ты сказала, что я похож на Сиприана.