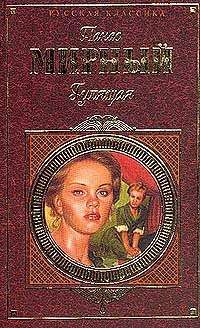В это время вошел полицейский. Довбню схватили за руки и поволокли из зала, хотя он сильно упирался и кричал. Крестьяне куда-то исчезли. Гостям, аплодировавшим Довбне, Лошаков предложил покинуть собрание. В зале поднялся невероятный шум; гласные разъяренно кричали, гости смеялись, кто-то вслух ругал Лошакова, кто-то свистал, и все заглушали шарканье и топот ног.
Зал быстро опустел. Посторонние все ушли, только гласные суетились и гудели, как пчелы, потерявшие матку. Но вот снова раздался звонок. Все затихли.
Лошаков начал свою речь с предложения уменьшить количество гласных из недворянских сословий и просить правительство запретить казакам и владельцам из мужиков быть самостоятельными выборщиками, с тем чтобы они, как государственные крестьяне, выбирали всей волостью. Заканчивая свою речь, он выразил надежду, что его предложение будет принято; если же кто-нибудь нашел лучший выход из создавшегося положения, пусть выскажется.
Собрание бурно рукоплескало красноречивому председателю. Несколько гласных подбежали к Лошакову и, кланяясь, горячо благодарили его. Другие кричали с места: «Что нам еще слушать? Лучшего предложения не надо. Ставьте на голосование!»
Вдруг поднялся какой-то взлохмаченный человек в синих очках с окладистой бородой.
– Я прошу слова! – крикнул он зычным голосом.
– Тише, тише, господа! – сказал Лошаков. – Вы желаете говорить? – спросил он, ехидно глядя на бородатого незнакомца в очках
– Не надо! Не надо! – загудели гласные. – Мы наперед знаем, что услышим одни порицания.
– Позвольте, господа! – крикнул Лошаков, поднявшись. – Не будем пристрастны. Может быть, господин профессор, как гласный от крестьянского общества, скажет нам что-нибудь в защиту своих избирателей.
– Не надо! Не надо! – не унимались гласные.
– Да позвольте же, не могу я лишить его слова.
– Не надо!
Лошаков зазвонил.
– Господа! – крикнул профессор. – Я не стану долго истязать вашего внимания, скажу лишь несколько слов. Я думаю, господа, что мы прежде всего – представители земства, а не какого-нибудь одного сословия, почему я и полагаю, что останавливаться только на сословных вопросах по меньшей мере неделикатно...
– Мы уже слышали... Не надо! Голосуйте. Вопрос так ясен, что в прениях нет надобности.
– Вы не хотите меня выслушать. Но, господа, я считаю для себя позорным участвовать в таком собрании, где нарушается свобода прений, возбуждается сословная вражда, причем обвиняющая сторона не дает возможности обвиняемой сказать что-либо в свое оправдание.
– Не надо!
– Я слагаю свои полномочия и удаляюсь, – сказал оратор и, с шумом отодвинув стул, вышел из зала.
– Скатертью дорога!
– Помилуйте! Что это такое? Приходишь в собрание – одни свитки и сермяги. Вонь, грязь, просто сидеть нет возможности.
– Сами себе назначают содержание, какое желают хозяева!
– Налоги вводят, какие им заблагорассудится, не считаясь ни с законом, ни с доходностью. Да к тому же еще и воруют земские деньги.
Такие возгласы и выкрики доносились со всех концов зала.
– Ну как же, господа? Никто не желает высказаться? – спросил Лошаков.
– Что тут говорить?
– Баллотируйте, и все!
– Помилуйте, уже одиннадцать часов, меня в клубе ждут партнеры.
– Господа, садитесь. Сейчас поставлю вопрос на голосование.
– Зачем? Единогласно!
– Единогласно! – загудели кругом.
– Против никого нет?
– Никого.
– Предложение принято единогласно. Поздравляю вас, господа.
– Закрывайте заседание. Главное разрешено, остальное можно отложить до следующего собрания.
– Да, я думаю, господа, что нам следует отдохнуть. Вот только еще вопрос о Колеснике.
– На завтра! На завтра! Сегодня поздно. Пора в клуб.
– Объявляю заседание закрытым. Завтра прошу пораньше, часов в одиннадцать, – сказал Лошаков.
Через десять минут зал опустел. В вестибюле и у подъезда давка, шум, суета.
– Извозчик! Давай!
– Карету генерала Н.!
– Эй, давай скорее!
Грохот железных шин о камни мостовой, дребезжание рыдванов, цокот копыт и гул, как в пчельнике...
Полчаса спустя и здесь все затихло. Вскоре начали гаснуть фонари. Здание управы постепенно тонуло в ночном сумраке. Казалось, обитатели его испугались того, что здесь произошло, и спешили погасить свет.
Когда свет погас в последнем окне, из-за колонны высунулась темная фигура и зашагала по невылазной грязи прямо через площадь. В непроглядной темени ночи слышалось только хлюпанье воды в лужах и невнятное ворчанье. В конце улицы под тускло горевшим фонарем замаячила какая-то тень. Это была женщина в дырявом и грязном платье. Ее голову и плечи закрывала рогожа. Незнакомка подошла вплотную к фонарю и начала вытирать башмаки.
– Вот это грязь! – произнесла она гнусавым голосом.
– Эй ты, безносая! Башмаки чистишь? – окликнул ее другой охрипший голос.
Женщина в рогожке начала озираться.
– Что, ослепла? – снова послышался охрипший голос.
– Ты, Марина?
– Я. Иди сюда – здесь не так сечет.
– А ты что, лучше? Нос – как труба, а вся в язвах, – огрызнулась женщина в рогоже и поплелась через мостовую на другую сторону улицы.
– Здорово! – сказала ей какая-то фигура в платке.
– Здравствуй, – прогнусавила в ответ первая.
– Где так измазалась?
– Около земства. На площади такая грязища, еле ноги вытянешь.
– Заработала что-нибудь?
– Заработаешь! В такую ночь хоть глаза выколи. А ты как?
– Да и я так же. Тут шел один пьяный...
– Ну и что?
– Прошел мимо.
Некоторое время обе стояли молча у забора.
– Я еще сегодня ничего не ела, – сказала та, что в рогоже.
– Разве тебя кормят через день? – смеясь спросила Марина.
– Нет. Сегодня совсем не варили...
Женщина в рогожке вздохнула.
– А слышала новость? – спросила она немного погодя.
– Какую?
– Твоего в полицию повели.
– Пьяного?
– Нет. Он обругал панов в земстве. Такой шум там поднял, что за полицией послали, насилу его увезли на извозчике.
– Так ему и надо.
– Кучера говорили, что ему за это тюрьма грозит или Сибирь.
– Дай Боже мне избавиться от этого пьянчуги.
– А все же ты сегодня ела.
– Не за его счет. Я и водку пила, так что? Он бы из рук вырвал, если б увидел.
– Все же лучше. Знаешь, Марина, что я надумала.
– А что?
– Домой уйду.
– Под забором сдыхать?
– А не все равно где?
– Тут у тебя хоть угол есть. А там кто тебя пустит?
Снова замолчали. Немного спустя издалека донесся какой-то неясный гул.
– Слышишь? – спросила Марина.
– Да.
– Пойдем, может, выгорит?
Марина двинулась вперед и запела тонким голосом:
Кабы да муж молодой
Хозяином был в хате!
А женщина в рогоже стала ей подтягивать сиплым голосом, точно поскрипывал сухой камыш:
Ой, гоп, до вечера!
Замыкайте, дети, двери.
Гоп! Гоп! Гоп!
Взяв Марину за руку, она начала отплясывать гопака.
– Стой! Не шуми! Расшибу! – крикнул на них прохожий, еле державшийся на ногах, и схватил за руку женщину в рогожке.
Марина пошла дальше. Пьяный что-то бормотал, ни к кому не обращаясь.
– Двугривенный не дашь, не пойду, – сказала женщина.
– Что мне твой двугривенный. У меня денег куры не клюют. Вот! – Он ударил по карману рукой. Послышалось дребезжание меди.
Они скрылись в темном переулке. Вскоре женщина в рогожке вернулась.
– Марина! – крикнула она.
– Чего тебе?
– Иди сюда.
Марина подошла.
– Ну что? Заработала?
– Двугривенный. Пойдем выпьем и закусим.
– А пьяного куда девала?
– Заснул под лавкой.
– Денег у него не осталось?
– Бог его знает. Он вперед дал.
– А ты, дура, сама не пошарила у него в кармане?
– Ну его!
– Где он лежит? Я пойду.
– Ушел. Ей-Богу, ушел.
– Врешь.
– Убей меня Бог. – Женщина махнула рукой, и рогожа упала с головы.
Она стояла около фонаря. Свет падал прямо на нее, освещая мокрое от дождя безносое лицо, потрескавшиеся губы, взлохмаченные волосы на голове.
Подняв рогожу и напялив ее на себя, она снова крикнула:
– Идем, говорю!
– Куда?
– А вот в шинке светится.
И обе женщины молча пошли по улице. Это были Христя и Марина.
На следующий день Лошаков на чем свет стоит громил Колесника. Если бы душа покойного еще летала по свету, то, прослушав эту речь, она, верно, поспешила бы в ад, чтобы там, в кипящей смоле, искупить тяжелые грехи и преступления, которыми наделил ее Лошаков.
Заодно досталось и Христе, «этому продукту глубокого нравственного растления... куртизанке... камелии... кокотке...». Она была бы, вероятно, страшно удивлена, если бы узнала, что о ней помнят такие важные персоны.
А Лошаков заливался соловьем. Даже побледнел от чрезмерного усердия... Ведь он старался недаром: благодарное земство преподнесло ему Веселый Кут с тем, чтобы он в течение двадцати лет покрыл растрату Колесника.