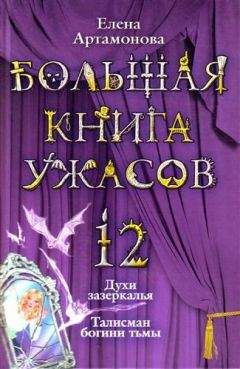Предводитель слушал княжну с возрастающим изумлением.
– То, что я вам скажу, должно остаться между нами: у меня умирает сестра, у ней остается ребенок. Я прошу вас быть у него опекуном.
– Помилуйте, – отвечал предводитель, – у ребенка остается отец!
– Этот человек, – отвечала княжна в сильном волнении, – не заслуживает доверенности ни правительства, ни честных людей.
Предводитель остолбенел; одумавшись, он отвечал:
– Позвольте, однако ж, княжна! ваши слова слишком сильны; но если б я и поверил им, то, по законам, я могу быть только назначен в помощь Владимиру Лукьяновичу, и то если на это будет согласие матери.
– Согласие матери? – сказала княжна с беспокойством. – Вы, как благородный человек, и в этом должны мне помочь; что надобно для этого?
– Надобно, чтоб она назначила меня в духовном завещании в помощь своему мужу.
– Вы должны к ней ехать вместе со мною.
– Помилуйте, вам ближе это сделать.
– Я не могу, она мне не поверит. Прибавлю к этому, что вы должны вместе с духовным отцом говорить с нею и, не забудьте, в отсутствие ее мужа.
– Признайтесь, княжна, что вы ставите меня в самое затруднительное положение, заставляете ехать секретно к умирающей женщине для того, чтоб заставить ее сделать то, что может быть неприятно ее мужу, человеку почтенному, уважаемому в целом городе. Нет, воля ваша, княжна, я на это не согласен.
Княжна была в отчаянии.
– Почтенного… уважаемого… – повторяла она, – когда я вам говорю, что он без чести, без совести…
– Но где же доказательства? – сказал наконец, предводитель, вышедши из терпения.
– Доказательства! – воскликнула княжна, – доказательства! у меня есть доказательства, и неоспоримые. Но умоляю вас – дайте мне честное слово, что вы никогда не откроете тайны, которую я вам поверю.
– Даю вам слово честного и благородного человека.
Княжна несколько минут была в недоумении; наконец, скрепив сердце и произнеся про себя: «Господи, еще жертва!..» – сказала: – Читайте, сударь!
Письмо Городкова к покойному казанскому уездному стряпчему:
«М. Г. и почтеннейший товарищ, Фома Иванович! Премного и чувствительно я одолжен вам за исполнение всех моих комиссий: истинно вы показываете свою старую дружбу и приязнь. Ваше благорасположение ко мне осмеливает меня просить вас: во-первых, прочесть сие письмо поотдаль от всех, ибо я имею сообщить вам нечто весьма секретное, для чего и письмо сие посылаю не по почте, но с верною оказией. Предупреждаю вас, что по ходу дел мне надобно объяснить вам мое положение в подробности, но это дело весьма деликатное; почему я в будущих письмах уже не буду прибегать к объяснениям, кои не всегда могут быть удобны, а уже по этому письму, почтеннейший, понимайте то, о чем впоследствии буду только намекать. Неоднократно я уже относился к вам, почтеннейший товарищ и однокорытник, поспешить окончанием продажи леса при селе Анисовке[5]; вы пишете ко мне, что, несмотря на мое согласие, остановили продажу, потому что считаете цену слишком дешевою и боитесь, чтобы я не переменил мыслей. Я за такой знак приязни вас чувствительно благодарю, но мои обстоятельства не позволяют мне ждать других покупщиков; я вынуждаюсь объяснить вам откровенно, с тем, разумеется, чтобы сие сохранилось в величайшей тайне и никому не было поверено. Описание сих обстоятельств убедит вас, почтеннейший друг, сколько необходимо нужно поспешать, ибо случай, как говорили древние писатели, плешив, – тотчас из-под руки выскользнет. Вы знаете, почтеннейший, что у меня, собственно за мною, ни кола ни двора; чтобы поправить мое состояние и сделать себе карьеру, я, как вам небезызвестно, долго искал себе невесты; наконец Бог мне послал жену, правда, глупенькую, но небезбедную, как вам также известно. Пока положение мое недурно, я на хорошей дороге, и в связях, и в родстве, и, благодаря Бога, могу не только себе, но и приятелям моим быть полезен. Но, любезнейший друг, вникните хорошенько в мое положение. Вы знаете:
„Все на свете сем не прочно“;
должно помышлять о будущем; умри жена – чего Боже сохрани! – я опять, с позволения сказать, останусь гол как сокол! Правда, есть у нас ребенок, но и ребенок – чего Боже сохрани! – может умереть; да если останется жив, то все я буду ни при чем, а разве при его милости. Это бы еще ничего, да опека, почтеннейший!.. Знаю, что и с нею можно концы с концами свести, но все хлопотно, опасно… хотелось бы иметь свое, отдельное, независимое… понимаете, любезнейший друг! Для сего-то я и желаю, елико возможно, поспешить продажею леса – хотя бы то было за бесценок – лишь бы не пропустить случая, когда дают чистые деньги; а вы знаете: чистоган святое дело! Да к тому же, признательно вам сказать, я не знаю, зачем мне упускать из вида и другую половину имения, когда Бог его так кстати мне посылает, тем более что обе половины вместе – настоящий объект, а врозь уже гораздо теряют свою цену. Тут дело, почтеннейший, повторяю вам за тайну, так сказать, пределикатного свойства. Извольте видеть, ведь свояченица может выйти замуж – понимаете?.. Правда, она ко мне, с позволения сказать, на шею вешается; я, разумеется, как благородный человек, не стараюсь воспользоваться ее слабостью, но, с другой стороны, смотря на сие обстоятельство с сурьезной точки зрения, нахожу сие весьма сообразным с моими намерениями. А между тем и то приходит в ум, что все-таки ей мужем быть не могу; но, не ровен час, может подвернуться какой-либо смазливенький – тогда, вы сами понимаете, почтеннейший, беда, да и только. Мне необходимо воспользоваться временем, пока в моих руках доверенность от обеих сестер на нераздельное управление общим имением. Во всех отношениях для меня нужно спешить. Все для меня опасно – выйдет ли свояченица замуж, или не выйдет: на грех мастера нет. Мало ли что может случиться!.. Боюсь зазору, молвы людской; вы знаете – я человек благородный, с амбициею; хочу, чтобы под меня нельзя было иголки подпустить; так и дорожу своей репутацией. Все сие пишу к вам, как к другу, и прошу вас покорнейше по прочтении сего письма оное уничтожить, и в ваших письмах ко мне не упоминать о моих обстоятельствах иначе, как весьма аллегорически. Постарайтесь, почтеннейший, тотчас по совершении купчей на лес немедленно доставить мне свидетельство на залог всего имения, о чем я уже к вам писал. Бога ради, поспешайте, елико возможно; денег не жалейте, только бы не замедлили. Прежде взятья свидетельства спросите у Клементья Федорова, хочет ли он выкупиться, или нет; если хочет, то деньги бы выслал ко мне немедленно; иначе я должен буду принять свои меры. Прощайте, почтеннейший! не замедлите вашим ответом. Извините, что я обременяю вас своими комиссиями; но что делать, почтеннейший! живой о живом и помышляет. Я человек благородный и нравственный: никогда для своей выгоды, даже если бы не имел и дневного пропитания, не в состоянии прибегнуть к непозволенному средству; но, с другой стороны, было бы слишком глупо и не воспользоваться теми видами, кои ныне представляются. Повторяю мою просьбу об уничтожении сего письма. Прекратя все сие, честь имею быть с совершенным почтением и таковой же преданностию ваш истинный друг и слуга
В. Городков».
Пока это письмо было читано предводителем, княжна Зинаида не сводила с него глаз. Она знала письмо наизусть; она следовала за каждым словом; она видела краску, выступившую на лице ей почти незнакомого человека, видела его полуулыбку, когда глаза его дошли до того места, которое относилось к княжне, – она все это видела.
Все, что она перенесла, сколькими годами постарела в эти немногие минуты, – рассказывать не нужно.
Прочитав письмо, предводитель сказал:
– Теперь я на все согласен: располагайте мною как хотите.
В тот же день, в минуту, когда Городкова не было дома, предводитель, духовный отец и двое свидетелей были в комнате Лидии; она подписала завещание, в котором предводитель был назначен душеприказчиком и опекуном в помощь Владимиру Лукьяновичу, а дети сверх того вверялись особому попечению княжны Зинаиды. Когда все кончилось и все бывшие в комнате умирающей удалились, возвратился Владимир Лукьянович. Предводитель, встретившись с ним в дверях, холодно поклонился и сказал, что он не замедлит к нему отнестись официально как душеприказчик жены его, – Владимир Лукьянович уже знал о вчерашней поездке Зинаиды; теперь загадка для него разгадалась, но только вполовину. Взволнованный, взбешенный, он побежал в комнату Зинаиды, но за дверью остановился и, приняв на себя нежно-печальный вид, вошел тихими шагами.
– Что это значит, княжна? вы и мне не доверяете? – сказал он, устремив на нее свои глаза, которых знал магнетическое действие.
Впервые и, верно, в последние, злобная улыбка появилась на устах княжны. Она посмотрела на своего обожателя с презрением и бросила ему в лицо письмо его к казанскому стряпчему…