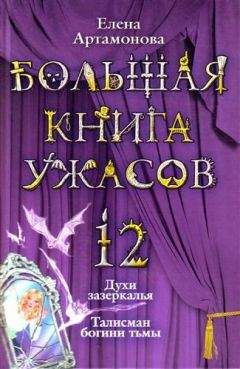Но вот все ее мечтания, все чувства сливаются в один определенный предмет: пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов – прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый; в его разговоре она слышит те заветные, любимые слова, которые до того она встречала только в книгах, которые отзывались в ее сердце и были непонятны всем ее окружающим; и это соединение всех совершенств – первый мужчина, которого она видит; с ним является первая любовь, первые надежды, первые муки… И этот мужчина возле нее; она видит его каждый день, – но их разделяет страшная, вечная бездна! Она скрывает пред ним душевные бури; когда сердце ее полно, голова горит и грудь высоко поднимается, она убегает его, она не смеет прикоснуться к нему, не смеет выговорить ему лишнего ласкового слова; она не может, она не должна любить его! И так протечет вся ее жизнь, жизнь неполная, ложная, как жизнь блестящего насекомого, пригвожденного к дереву холодным наблюдателем; тщетно оно расправляет радужные крылышки, трепещет, рвется; вокруг – солнце, вольный душистый воздух, а внутри – долгая, томительная боль, и нет сил от нее оторваться, – нет конца и страданиям бедной девушки: что бы ни случилось, какое бы ни было стечение обстоятельств, какие бы перевороты ни потрясли общества, всю землю, – бездна между ним и ею останется вечною, а перед нею еще долгая, долгая жизнь! Достанет ли у ней сил переносить это непрерывное страдание? Достанет ли ей сил каждый день быть с ним вместе и скрывать это борение с самой собою, когда часто оно доводит ее до степени, близкой к сумасшествию? Достанет ли ей сил убегать в свою комнату, когда при одном его взгляде кровь кипучим ключом бьет в ее жилах, когда все мысли о долге, о чести, о стыде улетают из ее головы, как будто волшебством – и она готова броситься в его объятия? «Нет, – думает княжна, пора этому положить конец, должно оставить этот дом; матушка простит меня; Бог сохранит Лидию и ее ребенка… келья в дальнем монастыре, власяница и камень в изголовье – вот что лишь может спасти меня от самой себя!» Но в эту минуту младенец, как будто понявший ее мысли, схватил ее за шею своими ручонками; княжна очнулась; она снова вспомнила о матери этого ребенка, о последних словах своей матери, – и все ее мысли смешались: ее душа пришла в то страшное, тяжкое состояние, когда два противоположные долга борются между собою, когда одна мысль уничтожает другую, когда человек обвиняет себя и в эгоизме и в неблагоразумном самоотвержении, когда он тщательно перебирает все изгибы своего сердца, боится обмануть себя, ищет первой отдаленной причины каждого своего чувства, каждой своей мысли, взвешивает каждое движение и в отчаянии не находит ответа…
В эту минуту дверь отворилась, и вошел Городков. Он остановился на пороге; его поразила прекрасная картина, бывшая пред его глазами. Княжна сначала не узнала его, но невольно вздрогнула; не знаю, что происходило в его душе в эту минуту, но он был задумчив. Он тихо, почти шепотом, поздоровался с княжною и в глубокой молчании бросился в кресла, стоявшие возле дивана. Так прошло несколько минут.
– Что с вами? – спросила наконец его Зинаида с беспокойством. – Отчего вы так задумчивы?
– Мало ли о чем мне думать! – отвечал он печально, – много бывает на сердце такого, чего не расскажешь и что между тем наводит невольную тоску.
– Но, говорят, рассказ того, что на сердце, облегчает печаль.
Городков вздрогнул.
– Да, – отвечал он, – есть люди счастливые, вот как, например, наш романтик, у которого для всего есть готовые фразы и который, мимоходом сказать, кажется, делает вам глазки – вероятно, чтоб иметь предлог сочинить туманную элегию в модном вкусе.
Княжна вздрогнула. Городков посмотрел на нее со вниманием.
– Я не думаю, чтоб из моих слов он мог сочинить нежную элегию, – сказала она, улыбаясь, – я ему всегда говорю столько резких истин, что, верно, они отобьют у него охоту толковать о своих романтических страданиях.
Городков вздохнул еще раз; но, кажется, от удовольствия, по лицу отгадать этого было невозможно.
– Что до него! – продолжала княжна, – скажите мне лучше, что с вами?
Городков придвинул кресла.
– Я буду говорить с вами откровенно, – сказал он, положив на стол свои прекрасные, белые, аристократические руки. – Скажите, что моя за жизнь? С кем могу я поделиться сердцем? Что ожидает меня в будущем? Вы знаете вашу сестру; вы знаете… – прибавил он, запинаясь, – она не может понимать меня, она мне не может быть помощницею в жизни, ни другом в печали, ни матерью детей, ни даже хозяйкою дома. Хорошо, что вы теперь из любви к ней взяли на себя все ее обязанности; но вы можете выйти замуж, я могу занемочь, умереть – что тогда будет с моим ребенком?
Княжна затрепетала, хотела что-то говорить, но стискивала зубы. Городков не сводил с нее глаз.
– Смотрите, как покойно Пашенька заснула на ваших руках; она вас знает больше, нежели Лидию, и в самом деле, вы настоящая мать, вы единственный друг мой.
Городков закрыл лицо свое руками, но, вероятно, не так плотно, чтоб не видать, что делается с княжною.
– Но надолго ли это? Вы выйдете замуж; у вас будут свои обязанности, другого рода привязанность, свои дети…
– Никогда! – вскричала княжна вне себя.
Он взял ее за руку; Зинаида была как в огне. Невнятные слова срывались с ее языка и замирали.
– Как это может быть? – отвечал Городков, смотря на нее нежно. – Вы сами не можете отвечать за себя; да и с моей стороны было бы слишком бессовестно требовать от вас такой жертвы. Не правда ли?
Княжна была в сильном волнении. Городков снова взял ее за руку, поцеловал ее; бедная девушка невольно прижалась к его щеке; ее густые кудри рассыпались по их сомкнутым лицам и, как бы непроницаемой пеленою, сокрыли то, что происходило в эту минуту; но ребенок, разбуженный этим движением, вскрикнул; княжна опамятовалась.
– Паше пора спать, – сказала она, поспешно встала и понесла ребенка в детскую. Городков последовал за нею в размышлении; княжна наклонилась над колыбелью, говорила скоро, отрывисто несвязные слова; вся она была как в лихорадке, лицо ее горело, руки дрожали. В эту минуту явилась Лидия в бальном платье, напевая мазурку и почти танцуя. Она не заметила ничего, хотя княжна смотрела на нее как преступница.
– Паша нездорова, – сказал муж, – мы с сестрицей насилу могли ее успокоить.
– Что такое? – сказала Лидия с своим остолбенелым взглядом, который один служил ей для выражения всех возможных чувств. Посмотрев на колыбельку, Лидия прибавила: – Она, кажется, започивала, и мне также спать очень хочется; я так устала!
Ребенок в самом деле заснул спокойно, ибо нисколько не был болен. Слова Городкова были ложь, но Зинаида разделила ее своим молчанием; между ней и мужем Лидии уже как будто заключилось тайное условие; она уже чувствовала необходимость что-то скрывать от сестры своей…
Лидия рассеянно благословила Пашу, чего никогда не забывала делать и чем, кажется, ограничивала весь долг материнский, и отправилась в спальню. Зинаида всю ночь промолилась пред образами и к рассвету почти в беспамятстве бросилась в постель.
В следующие дни посещения Городкова сделались чаще прежнего; иногда он говорил княжне такие слова, которые она одна могла понимать; иногда просто смотрел на нее, но такими глазами, которые говорили больше слов. Борение в сердце княжны достигло высшей степени; она не смела смотреть на сестру, хотя Лидия ничего не понимала, что вокруг нее происходило, и только радовалась тому, что муж не мешает ей выезжать. Княжна проводила ночи без сна, а когда засыпала, то воспаленное воображение повторяло ей все слова, сказанные во время дня, все движения ее сердца, досказывало недосказанное и увлекало ее в мир обольстительных, сладострастных видений. Просыпаясь, она с ужасом и наслаждением вспоминала свои ночные грезы; она видела, что стоит на краю пропасти, и не имела сил остановиться. Ее комната, в которой все напоминало обольстительный вечер, сделалась ей невыносимой, ее постель – ужасной; она потеряла способность молиться в этой комнате. Однажды вечером, когда она сидела у растворенного окна и теплый летний вечер коварно раздражал ее воображение, послышался благовест – и тысяча воспоминаний возродились в душе ее: она вспомнила свою детскую невинность, свою детскую, чистую, безмятежную молитву. Как бы ей хотелось снова пробудить эти тихие чувства в душе своей! Она почти невольно вышла из комнаты и, сама не зная как, очутилась в церкви. Там произошла сцена, описанная в письме Радецкого. Молитва придала бодрости княжне; слова молодого человека, столь ясные, простые, столь исполненные чувства, поразили ее; они ей показались нежданною помощию, ниспосланною свыше; твердость ее воли восторжествовала; она решилась одним ударом рассечь узел преступной страсти, принести себя в жертву, не отнимая у себя средств исполнить последнюю волю матери; она с геройскою решительностью предложила свою руку молодому человеку. Но когда она написала записку Радецкому, тогда осталось ей еще другое, трудное дело – объявить о своем решении Городкову. Она выбрала ту минуту, когда муж и жена были вместе, собралась с силою, и задыхающимся голосом выговорила: «Я выхожу замуж за Радецкого». Лидия захохотала, Городков побледнел, княжна поспешила договорить: «У нас уже все условлено; завтра наша свадьба; он едет отсюда… надобно скорее…» С этими словами ее голос прервался… она удалилась. Городков остался с женою и проговорил несколько незначащих фраз, которых она почти не слыхала, потому что ей тотчас в уме представился бал, который надобно будет дать по случаю свадьбы.