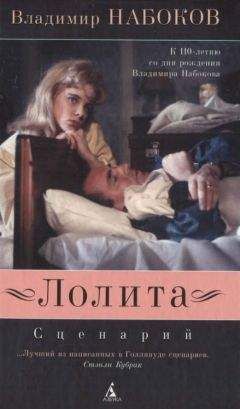Текст оригинала был продиктован первому читателю отца, Вере Набоковой, отпечатавшей его на машинке. Судя по письмам Набокова, вскоре после этого он показал рассказ четырем другим людям, своим литературным друзьям (см. Первое примечание автора).
По-видимому, в какой-то момент машинопись была также показана в Париже эмигрантскому критику Владимиру Вейдле. Это произошло не позднее мая 1940 года, когда мы отплыли в Нью-Йорк. Эндрю Фильд, который, кажется, читал статью, написанную спустя почти сорок лет с того момента очень старым Вейдле, незадолго до его смерти, утверждает[10], что вещь, показанная Вейдле, в нескольких отношениях отличалась от «Волшебника» (о котором у Фильда имеется в лучшем случае весьма расплывчатое представление, поскольку он видел лишь две страницы и один или, быть может, оба набоковских комментария, представленных в начале настоящего издания).
Предположительно тот вариант назывался «Сатир», девочка «была не старше десяти лет» и заключительная сцена происходила не на французской Ривьере, а «в отдаленном отельчике в Швейцарии». Фильд также называет главного героя Артуром. Непонятно, узнал ли он это имя от того же Вейдле, или (что более вероятно) он просто подглядел его в воспоминаниях отца в его послесловии к «Лолите». Я выдвинул предположение, согласно которому Набоков про себя называл главного героя Артуром и, возможно, даже использовал это имя в предварительных набросках. Однако крайне маловероятно, чтобы имя упоминалось в рукописи, в которой, как утверждает Вейдле, по словам Фильда, уже были даны «указания наборщику».
Что же касается трех отличий, приводимых Фильдом, даже если он точно пересказывает статью Вейдле, то последний, должно быть, сохранил довольно смутное воспоминание о том далеком событии (на самом деле Фильд признает, что Вейдле «не мог вспомнить, было ли у девочки имя в рассказе»). Дело же просто в том, что варианта под названием «Сатир» просто никогда не существовало; к тому же такое название показалось бы в высшей степени неправдоподобным любому, кто обладает чутким слухом к манере обращения Набокова с языком. Полагаю, столь же невысокой степени доверия заслуживают и остальные утверждения Вейдле.
Мне было пять лет, когда писался «Волшебник», и я был, мягко говоря, отвлекающим фактором в нашей парижской квартире и пансионах на Ривьере. Я помню, как в перерывах между долгими играми со мной, на которые отец никогда не жалел времени, он порой удалялся в ванную комнату нашего более чем скромного жилища, чтобы поработать в тиши, не используя, правда, для этого – как делал, бреясь, Джон Шейд в «Бледном огне» – положенную поперек ванны доску. Хотя я уже осознавал, что мой отец «писатель», я совершенно не представлял себе, что собственно писалось, и мои родители, разумеется, не пытались познакомить меня с рассказом «Волшебник» (думаю, что из написанного моим отцом я знал в то время лишь его перевод сказки Кэрролла «Аня в Стране чудес», а также небольшие истории и песенки, которые он придумывал для меня). Возможно, что к тому времени, когда отец писал «Волшебника», я уже был отправлен в Довиль с маминой кузиной, поскольку существовали опасения, что очень скоро гитлеровские бомбы начнут разрываться и в Париже. (Так и вышло, но только после нашего отъезда в Америку, причем в то самое время, когда мы плыли через океан на Шамплене, в наш дом, как мне кажется, угодила одна из тех немногих бомб, что были действительно сброшены на город. Судну также была уготована гибель после того, как корабль благополучно, без каких-либо особых происшествий, доставил нас в Америку, разве что однажды во время плавания кит, выпустив в воздух фонтан, встревожил парочку стрелков, уже готовых было открыть по нему огонь; во время своего следующего рейса, на который у нас первоначально были билеты, корабль был потоплен немецкой подводной лодкой, вместе со всеми, кто находился на его борту.)
Помимо того что уже стало или теперь становится известным публике, мать и я немногое можем вспомнить о зарождении у ВН идеи рассказа, но можем лишь предостеречь читателя от некоторых вздорных предположений, сделанных особенно в последнее время. Что же касается связи с «Лолитой», тема ее, по-видимому, была оставлена в покое (как замечает сам Набоков в эссе «О книге, озаглавленной „Лолита“») до той поры, пока новый роман не пустит ростки, – примерно так же, как в случае прерванного романа «Solus Rex» и позднейшего, во многом отличного от него, но все же родственного «Бледного огня».
Из набоковского послесловия к «Лолите», написанного в 1956 году, явствует, что в то время он полагал, что все существовавшие машинописные экземпляры «Волшебника» уничтожены, а его воспоминание о новелле было несколько туманным – отчасти из-за того, что прошло много времени, а в основном потому, что он отверг ее как «отработанный материал», который заменила собою «Лолита». Считавшийся утраченным текст нашелся, вероятно, незадолго до того, как ВН предложил его, с возродившимся энтузиазмом, издательству «Путнам» (см. Второе примечание автора).
Я долго ничего не знал о существовании вещи, узнав же, сумел прочитать ее только в начале восьмидесятых, когда наши обширные архивы были наконец разобраны Брайеном Бойдом (автором подробной и безукоризненно точной биографии ВН, которая должна выйти в свет в 1988 году). Вот тогда-то «Волшебник», который был просмотрен отцом в шестидесятых, прежде чем опять утонуть в море вещей, отправленных в Швейцарию со склада в Итаке, вновь вынырнул.
Я завершил более или менее окончательную версию перевода в сентябре 1985 года.
За изначальное побуждение к тому, чтобы взяться за отнюдь не легкое дело, я должен сердечно поблагодарить Мэтью Брукколи, имевшего в виду издать вещь очень ограниченным тиражом, как Набоков когда-то и предлагал Уолтеру Минтону, тогдашнему президенту «Путнама».
Дебют «Волшебника» у публики совпадает по времени с событием, бросающим на него забавный и поучительный отсвет. В 1985 году в Париже началась энергичная, хоть и ведущаяся в одиночку кампания, цель которой – приписать Владимиру Набокову изданную под псевдонимом, совершенно не-набоковскую книгу, вышедшую еще в середине тридцатых и озаглавленную «Роман с кокаином».
Входя в очень небольшое число вновь открытой Набоковианы, «Волшебник» является наиболее ярким образчиком той поразительно оригинальной прозы, которая вышла из-под пера Набокова-Сирина в его наиболее зрелые – и последние – годы романиста, пишущего на родном языке (на самом деле незадолго до того, как написать в 1939 году «Волшебника», ВН закончил свою первую крупную английскую вещь, «Истинную жизнь Севастьяна Найта», а 1940-й стал годом нашего переезда в Соединенные Штаты).
Для тех, у кого еще могут оставаться какие-то сомнения по поводу авторства другой книги, беглого сопоставления ее содержания и стиля с содержанием и стилем «Волшебника» должно быть достаточно, чтобы всадить последние несколько пуль в эту умирающую газетную утку.
Краткий отчет об этом странном деле будет тем не менее по возможности точным. В начале 1985 года в парижском журнале «Вестник русского христианского движения» профессор Сорбонны Никита Струве с большой убежденностью заявил, что «Роман с кокаином», некоего «М. Агеева», написанный в начале тридцатых годов в Стамбуле и вскоре опубликованный в парижском эмигрантском журнале «Числа», принадлежит перу Владимира Набокова.
В доказательство этого тезиса Струве привел предложения из «Романа с кокаином», которые, по его мнению, «типичны для Набокова». Утверждения Струве были подхвачены Джулианом Граффи из Лондонского университета, который в письме в (лондонское) «Литературное приложение к „Таймс“» упоминает сделанный Струве «подробный анализ второстепенных тем, структурных приемов, семантических полей [что бы под этим ни подразумевалось] и метафор в РСК, которые признаются, на основе многократного цитирования и сравнения… набоковскими по своей сущности».
С тех пор отголоски теории Струве раздавались еще в нескольких публикациях в Европе и Соединенных Штатах.
Можно указать на множество слабостей стиля Агеева – например, явно неправильные формы слов вроде «зачихнул» (вместо «чихнул») или «использовывать» – очевидных всякому, кто знаком с русским языком. Удивительно, что такой сорбоннский специалист по русскому языку и литературе, как Струве, или такой профессор-славист Лондонского университета, как Граффи, могли спутать неправильные, а подчас и вульгарные выражения недостаточно образованного Агеева с точным и выверенным стилем Набокова. Как замечает Дмитрий Савицкий в статье, опровергающей теорию Струве (Русская мысль. 1985. 8 ноября), русскому языку Набокова присущ безупречный ритм классической поэзии, в то время как русский Агеева «замысловат, ухабист, неровен». Одного взгляда на стиль Агеева достаточно, чтобы сделать ненужным опровержение остальных аргументов Струве.