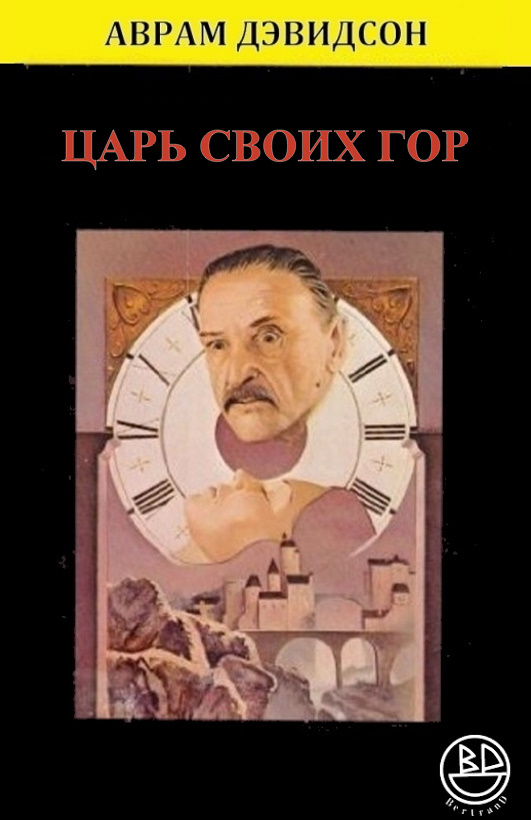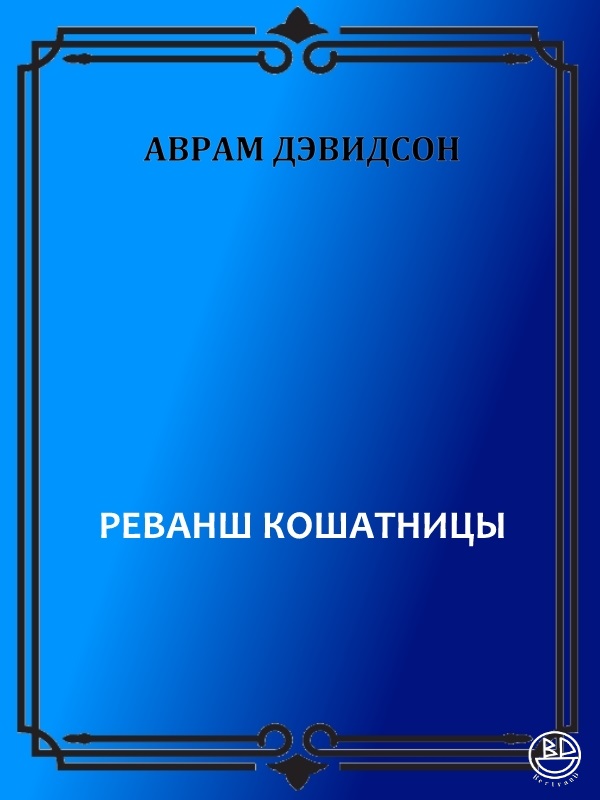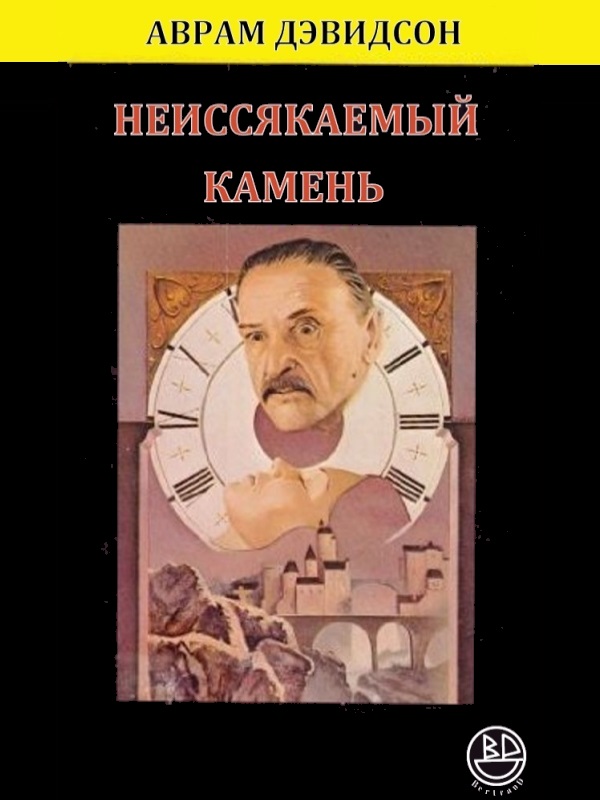остальной части стола, удачно остановившись прямо у руки Эстерхази. Который преспокойно размешивает содержимое ложки в зупе, затем подносит миску к губам и осушает её до дна.
— Превосходно! — восклицает он. — Восхитительно! Ах, нет ничего лучше старой доброй миски зупа!
Хозяин, наконец-то поймав взгляд Эстерхази, произносит: — Ты многому учён.
— И всё ещё остаётся многому научиться, — последовал ответ.
Князь снова кряхтит, на сей раз потише. — Ну, раз ты слыхал, что я говорил, то и ты, и мы оба вольны во всём… Посмотрим, что можно сделать… Читаешь ли ты руны секеев [17], о гость мой?
— И их, и прочие.
— На древних и мёртвых языках?
— И на тех, и на тех.
— Впечатляет. А на арамейском?
— Да. Хотя это значительно зависит от используемых символов. Еврейские я читаю довольно легко. Несторианские — похуже. А что до яковитских [18] — их сначала приходится транслитерировать. Тогда мне сравнительно нетрудно.
— Хорошо. Уверен, что насчёт средневековой латыни и греческого не стоит и спрашивать. Итак. Утром…
— Если ты до тех пор не окочуришься в собственной грязи, — прерывает старая кормилица, войдя с прижатым к лифу подносом. — Некоторые ночные горшки не опорожнялись с тех времён, как Собеский [19] был польским королём, а Тесси — венгерским; так-то ты убираешься. Вот. Кисло-сладкая свинина. Уж конечно, я собственными пальцами выбрала все изюминки. Кто ж ещё это сделает? Уж не те чванливые девки, которые с грязными ногами скачут туда-сюда по кое-чьей постели. Ах…
— Ставь сюда, няня, — распоряжается князь. — И, как тебе прекрасно известно, можешь уйти хоть завтра, с полным пенсионом.
Может, ей и было прекрасно известно, но, так это или нет, она не отвечает, а следующее замечание обращает к гостю своего бывшего питомца.
Старушка ставит на стол другое блюдо, по всей видимости, макаронный пудинг с жиром, мёдом и приправами; упирает руки в боки и глазеет на Эстерхази. — Вот скажи мне, господин Филозоф, — спрашивает она через минуту, — это правда, что некоторые мудрилы, вроде тебя, так они пытаются сделать машину, которая сможет летать?
Пудинг, за который доктор в детстве готов был убить, выглядит невероятно жёстким и, возможно, теперь сам может убить его. Он окаймлён маленькими яблочками; одно из них можно будет попробовать на десерт; и, всё же, чем дольше Эстерхази сумеет уводить разговор от пудинга, тем лучше. — Да, матушка, — отвечает он — и каким же взором она его прожгла! Ему лучше запомнить, что не стоит обзывать её «матушкой» снова… — это правда. Некоторые из них пытаются.
Она интересуется, по виду совершенно искренне: — Почему ж они не изучают деревья? Кусты?
Немного удивившись, Эстерхази переспрашивает: — Почему? Разве деревья и кусты здесь летают? — Она коротко кивает, словно это было известно всем и не слишком интересно. — О. Как же их распознать… то есть, что?
— Иди и изучи, — отзывается она. Князь Попофф безмолвно ест. — Можно распознать… ох, по тому, как сучья выглядят… например… и по тому, как деревья тянутся к небу. И как колышутся ветки кустов.
Кусочек румяной подслащенной макаронины выпадает изо рта князя на жилет. Князь поднимает его и снова отправляет в рот.
— Манеры, как у паршивого пса, — комментирует старуха.
— Ну, тогда не научите ли меня? Я бы дал…
— Нет, — обрывает она. — Я не могу тебя учить. Ты не готов. Скажу лишь… — она вытягивает палец с длинным (и давно не чищенным) ногтем и на миг касается точки между его бровями… — …посмотрим. Может, когда-нибудь.
Её взгляд, отвлечённый и рассеянный, теперь вновь сосредотачивается. Она быстро оглядывает стол, затем снова устремляет взор на гостя. — И, думаю, зуп не пришёлся по вкусу. Уверена, в Белле его готовят лучше.
Тут требовались чрезвычайные меры, иначе она могла спросить насчёт пудинга. — Зуп был первоклассным, мадама. Нет, лучше не готовят. И вот кое-что в подтверждение. — И кое-что тут же находится, выскакивает из докторского кармана и описывает над столом параболу. Оно обладает размером, формой и блеском золотой кроны, так что, возможно, это она и есть — хотя, кто сумел бы такое определить, ибо это упокаивается за левым ухом мадамы, куда никто не пожелал бы последовать и исследовать. Явно не ощущая подобного нежелания или сомнения, она изучает монету, немедленно прячет её за пазуху, исполняет старинный книксен (при котором, как минимум, семнадцать костей заметно щёлкают, трещат и стучат) и покидает обеденную залу в такой спешке, будто подозревает, что Эстерхази может и передумать.
Эстерхази уже выкурил трубку местного, дьявольски крепкого дабага, как его тут называли; теперь у него возникло желание выкурить сигару, но помягче и послабее. Ещё он желал удалить следы пищи с лица и пальцев. Так что, оставив своего хозяина с его собственной трубкой, ногами в камине и продымлённого различными дымами, Эстерхази мерным шагом отправляется наверх, в свои покои.
В залах замка Попоффа обнаружилось множество парадоксов. Когда Эстерхази отправился вымыть руки и лицо, то увидел, что тазик был из мрамора, а рукомойник — из оникса; но когда, постепенно накидав уйму сигарного пепла, доктор стал искать метёлку, чтобы его смести, то обнаружил не обыденный городской предмет из жёлтой соломы, которую татары или цыгане собирали в пучок и привязывали к устройству, смахивающему на огромный камертон, нет: он увидел пучок жёстких веток, грубо примотанных к концу палки; словом, дрянное помело, каким провинциальные слуги смахивают с крыльца засохшую грязь. Эстерхази решил лучше оставить пепел там, где он лежит. В сигару была вставлена соломинка; вытащив её перед курением, доктор мог прекрасно затягиваться, причём, кончик сигары тоже не требовалось откусывать или отрезать: занятно, что пепел падал на тёмный половик колечками, с пустотой на месте, где была соломинка; это выдавало его происхождение из манильской сигары [20], понятное даже тому, кто не читал никаких монографий по данному предмету.
Следующим утром, проходя по Большому Залу в надежде отыскать что-нибудь на завтрак, кроме того, что принесли ему в прихожую — кружки кофе, достаточно крепкого, чтобы дубить шкуры, горшка совершенно остывшей кукурузной тюри и маринованной головы здоровенной озёрной рыбины — проходя по Большому Залу, уставленному грубой и массивной мебелью, на или в которой великаны могли сидеть, хоть скрестив ноги, а люди размером поменьше — даже лагерь разбить; увешанному ржавыми и не очень ржавыми дротиками на оленей и на кабанов, пружинными ружьями и капканами, истрёпанными и изодранными с давних времён знамёнами, косматыми и полысевшими шкурами, которые запросто могли бы оказаться (как подумал доктор после) содранной с врагов кожей —