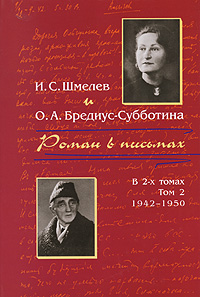не имею уже бесконечно долго и, если бы не письмо А. Н. Меркулова
156, то я потеряла бы и сон и аппетит от заботы о твоем здоровье. Но ты почему-то другому не пишешь, и я… не докучаю вопросами. Молчу. Мне
давно, м. б., следовало бы себе кое-что уяснить… Я не знаю, передала ли А[нна] С[еменовна] тебе хоть что-нибудь, хоть одну коробочку Bisma-Rex, т. к. от тебя об этом ни звука. Очевидно,
не передала, т. к., судя по письму Александра] Н[иколаевича], о приезде А[нны] С[еменовны] уже и тебе, и, даже, ему известно. Мне очень жаль, что я так наивно положилась на любезность А[нны] С[еменовны] и просила ее еще об одной мелочи. Теперь, благодаря этому, очень возможно, что ты не получишь того, что я всем сердцем тебе хотела дать к Рождеству Христову. Но тогда пеняй на нее.
Мне уже исправить теперь поздно… Ванечка, я не смею и не хочу касаться твоих таких близких, но скажу все же, что: умоляю тебя _н_и_к_о_г_д_а, _н_и_к_о_г_д_а_ не просить ни о чем
для меня M-me B[oudo]. Все поведение ее было таково, что я могла сделать лишь этот вывод. Кроме того, всю мою посылку она оставила в магазине (на протухание, т. к. там жарко было): 2 фунта сливочного масла, 2 банки сгущенного молока, 20 яиц, сухие яблоки, коробку пьяных вишен, пару шерстяных носок и лекарства. И еще одну мелочь, от которой она и то «переломилась», хотя сунуть могла в сумочку, не ощутив никакого веса. Ну, Бог с ней… Я сама не имела удовольствия с ней говорить. Была у телефона мама. Я лежала с новым кровоизлиянием. А я-то, дура, еще думала душегрейку для Анны Васильевны послать, чтобы Вы оба у елочки обо мне подумали, чтобы она лучше за тобой ходила! — Ты м. б. скажешь, что я очень многого от нее ждала… но нет же! Если вспомнить, что
мы возили для других! А по твоей же теории ответственности одного за всех и всех за одного, — что выходит? Ну, будет! Будет! Прости, что выразила свое мнение о дорогих тебе людях, но я не виновата, что от нее в отношении себя видела только такое… на основании него не могу составить хорошего мнения. — Из твоего письма (давным-давно) вижу, что у тебя появился оптимизм относительно моей болезни и как будто даже на основании каких-то моих замечаний. Оснований к этому — _н_е_т. Наоборот — все так же неясно, как и было. Доктор энергично отклонил всякую мысль о камне в почке, произведя анализы. Я опять сильно ослабла и очень побледнела. Кроме того, осталось осложнение, которого прежде не бывало, и хотя я не больна в полном смысле этого слова, но чувствую себя не хорошо. Лекарства мои все (витамины «С» и «К») отменили за очевидной их бесполезностью. И я живу на авось. Сам понимаешь, что не очень-то весело от всего этого. Последнее кровоизлияние пришло во время моего 2-х-недельного лежания, — значит никакой внешней причины тоже не было. Я и плюнула теперь на это «беречься» — делаю все, что хочу, что могу. Никакое «беречься» меня не спасало. Я не делаю безрассудностей, не езжу верхом и т. д., но живу
обычно, как если бы была здорова. Скоро и на боку попробую спать. И это не оттого, что я верю в здоровье, а… от отчаяния. Но, впрочем, хватит о болезни. Это надоедает.
А теперь настоятельная к тебе просьба: ответь же мне Бога ради (на этот хоть раз только!!) — как пишется фамилия Елизаветы Семеновны? Ты писал, и я поняла Ghelelovich, a А[лександр] Н[иколаевич] пишет по-русски «Габрилович». Мне это очень нужно, и скорей. Если тебе трудно писать мне много, то хоть открытку напиши. Это мне надо! И затем, если вздумаешь писать и больше, то я давно уже спрашивала тебя твое мнение о Жорж-Санд157..
Я тебе в возвратных письмах писала, почему не отозвалась на твой вопрос о выборе глав из «Солнца мертвых» для печатания. Не могу (не люблю) повторяться. Да ты м. б. и знаешь почему. Эти новые твои «собратья по литературе» — мне не хотелось тебя видеть на ряду с ними.
Семейные дела158 меня, конечно, очень расстраивают, всякий раз, когда ты все это затрагиваешь в письмах, я так разгораюсь, что могу забыться и наговорить такого, что прямо погублю свое положение в доме. Я же очень несдержанна могу быть в таком. Я не могу примириться с мачехой159… ни в чем, — ты это знаешь и не надо этого касаться.
М. б. в этих же вернувшихся письмах было и мое объяснение тебе, почему я «Юля» пишу в кавычках… Не знаю, на всякий случай, еще скажу: конечно, не по неуважению (откуда бы оно могло взяться?), но только потому, что я не имею основания ее звать Юля, как не смела бы покойную О. А. назвать Оля. Ведь то, что ты ее так зовешь, не дало мне права на это. По крайней мере ты мне об этом не сказал. — Ну, «отчетная» сторона письмА кончена. Что же хочешь ты знать обо мне еще? И хочешь ли вообще? Меня лечит все еще магнетизерка. И я тоже ничему не верю. Она мне в последний раз сказала, что ощутила при входе к нам тяжесть в груди, до обморока почти и тотчас же увидела молодого мужчину с бородой — призрак. Спросила меня, не носил ли папа бороду. Сказала, что папа умер рано очень, но что всякий раз, как она приходит, она его у нас чувствует. И это ощущение в груди передалось ей — его предсмертное состояние. Не знаю… Так странно. Она лечит так: встав на колени перед больным, молится, держа за руки больного. Потом легко прикасается и гладит все тело. И тогда чувствуешь сильный холод, а внутри жар. Очень странное чувство. Потом опять молится. Она мне сразу сказала, что болит у меня левая почка, — этого ей никто не говорил. Маме она сказала про сердце, — тоже верно. Все это, конечно, странно очень, но я не делаю никаких суждений, пока что.
Удастся ли мне поехать на Рождество в церковь — не знаю. Сегодня получила письмо от о. Д[ионисия] с сообщением разных церковных служб. Но я не смогу. Рада бы была, если бы удалось, хоть на Рождество Христово. Но, что я о себе знаю? Сегодня здорова, а завтра в лежку могу. А поехать в храм очень хочу, т. к., Бог знает, долго ли