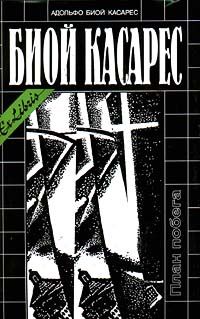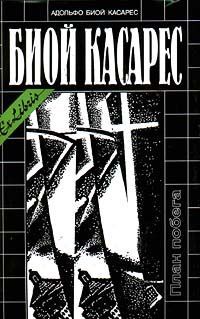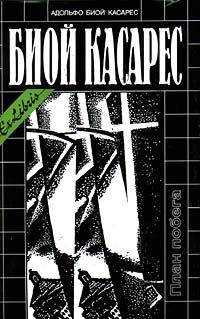что покупатель хочет приехать и посмотреть их. Некоторые из этих писем я видел.
– Пусть Хейнс спит, – сказал Морель. – Он слишком тяжел, если тащить его сюда, мы никогда не начнем.
Морель уперся руками в стол и взволнованно заговорил:
– Я должен сделать заявление. – Он нервно улыбнулся. – Ничего страшного. Чтобы не допускать неточностей, я решил сначала все написать. Выслушайте меня, пожалуйста.
(Морель принялся читать желтые листки, которые я вкладываю в папку. Сегодня утром, убегая из музея, я заметил их на столе и прихватил с собой [17].)
«Вы должны простить мне эту сцену, поначалу скучную, затем страшную. Мы забудем о ней. Думая о приятной неделе, прожитой здесь, не станем придавать ей особого значения.
Поначалу я хотел ничего вам не говорить. Вам не пришлось бы пережить вполне естественное беспокойство. Я один рассчитал бы за вас все, вплоть до последней минуты, во избежание протестов и бунтов. Но вы мои друзья, вы имеете право знать».
Он замолчал, обводя всех глазами, руки его подрагивали, губы кривились в нервной улыбке; потом он продолжил с новой силой:
«Моя вина состоит в том, что я фотографировал вас без вашего позволения. Конечно, это не просто фотография, это мое последнее изобретение. В фотографии мы будем жить вечно. Представьте себе сцену, на которой полностью воспроизводится наша жизнь в течение семи дней. Мы актеры. Все наши действия записываются».
– Какое бесстыдство! – крикнул черноусый мужчина с торчащими зубами.
– Надеюсь, это шутка, – сказала Дора.
Фаустина не улыбалась. Казалось, она возмущена.
«Я мог бы сказать вам по приезде: мы будем жить для вечности. И, наверное, мы все бы испортили, изо всех сил стараясь непрерывно веселиться. Но я подумал – любая неделя, проведенная нами вместе, будет приятной, если не чувствовать себя обязанными непременно проводить время хорошо. Разве не так?
И вот я дал вам вечную беззаботность.
Разумеется, людские творения несовершенны. Кое-кого из друзей нет с нами. Клод прислал извинения: он работает над гипотезой в форме то ли романа, то ли теологического трактата о несогласии Бога и личности; гипотеза эта, как он считает, принесет ему бессмертие, и он не хочет прерываться. Мадлен уже два года никуда не выезжает, боясь за свое здоровье. Леклерк договорился с Дэвисами поехать во Флориду».
– А бедняга Чарли, конечно… – прибавил он, помолчав.
По тону этих слов, по ударению на слове «бедняга», по торжественному молчанию, по тому, как кое-кто тут же заерзал, двинул стулом, я заключил, что этот Чарли мертв, точнее, умер совсем недавно.
Морель продолжил, словно спеша развеять общую грусть:
– Но он со мной. Если кто-то пожелает увидеть его, я могу показать. То был один из моих первых опытов, увенчавшихся успехом.
Он остановился. Казалось, он заметил, как настроение в зале снова переменилось (сперва слушателям, пребывавшим в приятной скуке, сделалось не по себе, они слегка осуждали его за допущенную бестактность: в шутливой речи вдруг напомнить о мертвеце; теперь они были в недоумении, почти в ужасе).
Морель поспешно вернулся к желтым листкам.
«Уже давно мои мысли были заняты двумя важнейшими предметами – моим изобретением и…» Сейчас между Морелем и аудиторией опять установилась симпатия. «Например, я разрезаю страницы книги, гуляю, набиваю трубку и рисую себе счастливую жизнь с…»
Каждая пауза вызывала бурные аплодисменты.
«Когда я закончил свое изобретение, мне захотелось (сперва это была просто фантазия, потом – захватывающий проект) навечно воплотить в жизнь свою сентиментальную мечту…
Мысль о том, что я наделен высшим даром, и уверенность, что легче заставить женщину полюбить себя, чем создать рай, побудили меня действовать без долгих размышлений. И вот надежды внушить ей любовь остались далеко позади, я уже не пользуюсь ее доверием и дружбой: я лишен точки опоры, у меня нет желания жить.
Следовало выработать тактику. Набросать планы». (Морель изменил тон, как бы извиняясь за излишнюю серьезность своих слов.) «Поначалу я думал или убедить ее приехать сюда вдвоем (но это было невозможно: я не видел ее наедине с тех пор, как признался в своей страсти), или попытаться похитить ее (тогда мы ссорились бы вечно).
Заметьте, на этот раз слово «вечно» – не преувеличение». Морель очень изменил этот абзац. Кажется, он сказал, что подумывал похитить ее, и потом стал шутить.
«Теперь я объясню вам суть моего изобретения».
До сих пор рассказ Мореля был крайне неприятным и беспорядочным. Человек науки, но притом излишне вздорный и суетный, Морель выражается точнее, когда оставляет сантименты и переходит к своим любимым трубам и проводам; от его стиля по-прежнему коробит, речь пересыпана техническими словами, он тщетно пытается использовать некие ораторские приемы, но излагает мысли намного яснее. Пусть читатель судит сам:
«Какова функция радиотелефона? Восполнить – в плане звуковом – чье-то отсутствие: при помощи передатчиков и приемников мы можем из этой комнаты вести разговор с Мадлен, хотя она находится от нас на расстоянии более двадцати тысяч километров, в пригороде Квебека. Того же достигает и телевидение – в плане зрительном. Меняя частоту колебаний, то ускоряя, то замедляя их, можно распространить этот эффект на другие органы чувств – собственно, на все.
С научной точки зрения способы восполнить отсутствие можно было до недавнего времени сгруппировать более или менее так:
В плане оптическом: телевидение, кинематограф, фотография.
В плане звуковом: радиотелефон, патефон, телефон [18].
Заключение.
До недавнего времени наука ограничивалась тем, что помогала слуху и зрению победить время и пространство. Заслуга первой части моих работ состоит в том, что я преодолел инерцию, уже обросшую традициями, и логически, следуя почти параллельным путем, развил рассуждения и уроки тех ученых, которые усовершенствовали мир, подарив ему упомянутые изобретения.
Я хочу подчеркнуть, что глубоко благодарен тем промышленникам – как французским («Сосьете Клюни»), так и швейцарским («Швахтер» в Санкт-Галлене), – которые поняли важность моих исследований и дали мне возможность работать в их закрытых лабораториях.
К моим коллегам я не могу испытывать тех же чувств.
Когда я поехал в Голландию, чтобы переговорить с выдающимся инженером-электриком Яном ван Хёузе – изобретателем примитивного прибора, позволяющего определить, говорит ли человек правду, – я услышал массу ободряющих слов, но за ними стояло подлое недоверие.
С тех пор я работал один.
Я занялся поисками еще не открытых волн и колебаний, созданием приборов, чтобы улавливать их и передавать. Сравнительно легко я нашел способ передачи запахов; гораздо труднее оказалось уловить и передать ощущения тепловые и осязательные в строгом смысле этого слова, тут потребовалась вся моя настойчивость.
Кроме того, надо было усовершенствовать уже существующие средства. Наилучших результатов добились изготовители патефонных пластинок, это делает им честь. Давно можно утверждать, что голос наш не подвластен смерти. Зрительные образы сохраняются, хотя и весьма несовершенно, с помощью фотографии и кинематографа. Эту часть работы я направил на то, чтобы удерживать изображения, получаемые в зеркалах.
Человек, животное или предмет