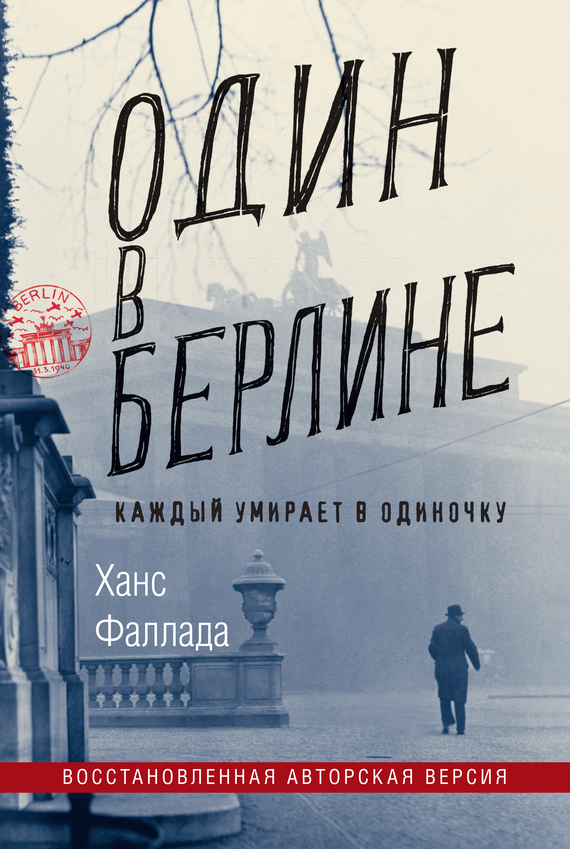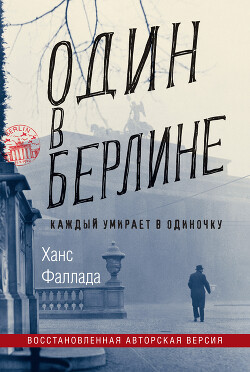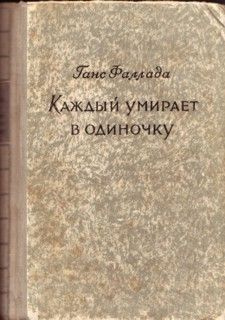вытерпела — вытерпит и это! Разумеется, яд надо сохранить до последней минуты.
Она бродит взад-вперед, взад-вперед.
Но от только что принятого решения легче не становится. Снова ее охватывают сомнения, снова она борется с ними, снова решает уничтожить яд, сейчас, сию же минуту, и снова не делает этого.
Между тем свечерело, и настала ночь. Несделанную работу из камеры вынесли, а ей сказали, что за лень заберут на неделю матрас и посадят на хлеб и воду. Но она толком не слушала. Какое ей дело до их речей?
Вечерний суп нетронутый стоит на столе, а она все бродит взад-вперед, до смерти усталая, неспособная мыслить ясно, жертва сомнений: делать или нет?
Язык передвигает во рту ампулу с ядом — толком не отдавая себе в этом отчета, толком этого не желая, она тихонько, осторожно зажимает ампулу в зубах, осторожно надавливает…
И поспешно вынимает ее изо рта. Бродит и пробует, уже вовсе не понимает, что делает, — а за дверью лежит наготове смирительная рубашка…
Внезапно, уже глубокой ночью, она обнаруживает, что лежит на своих деревянных нарах, на жестких досках, укрытая тоненьким одеялом. И вся дрожит от холода. Она спала? Ампула еще здесь? Неужели проглотила? Во рту ее нет!
В безумном ужасе она вскакивает, садится — и улыбается. Да вот же она, в ладони. Во сне она держала ее в руке. Она улыбается — снова спасена. Не умрет другой, жуткой смертью…
И пока вот так сидит и зябнет, Анна думает, что отныне придется изо дня в день выдерживать эту ужасную борьбу между волей и слабостью, трусостью и мужеством. А исход этой борьбы так ненадежен…
И сквозь сомнения и отчаяние она слышит ласковый, добрый голос: «Не бойтесь, дитя мое, только не бойтесь…»
Внезапно Анна Квангель понимает: сейчас я приму решение! Сейчас мне хватит сил!
Она крадется к двери, прислушивается к звукам в коридоре. Шаги надзирательницы все ближе. Она становится к стене напротив, а когда замечает, что за ней наблюдают в глазок, начинает медленно расхаживать взад-вперед. «Не бойтесь, дитя мое…»
Удостоверившись, что надзирательница пошла дальше, Анна влезает на табуретку у окна. Чей-то голос спрашивает:
— Это ты, семьдесят шестая? У тебя нынче был посетитель?
Она не отвечает. Больше никогда не ответит. Одной рукой держится за оконный переплет, другую высовывает наружу, в пальцах у нее ампула. Она прижимает ее к каменной стене, чувствует, как обламывается тонкий кончик. Бросает яд вниз, во двор.
Стоя на полу камеры, она нюхает пальцы — сильный запах горького миндаля. Моет руки, ложится на нары. Она до смерти устала, ей кажется, будто она избежала огромной опасности. Засыпает она быстро. Спит очень крепко, без сновидений. Просыпается освеженной.
С этой ночи № 76 больше не давала повода для выговоров. Была спокойна, весела, прилежна, приветлива.
Она почти не думала о тяжкой смерти, думала лишь о том, что не обесчестит Отто. А порой, в минуты уныния, вновь слышала голос старого советника апелляционного суда Фромма: «Не бойтесь, дитя мое, только не бойтесь».
Она не боялась. Больше не боялась.
Превозмогла страх.
Еще не рассвело, когда надзиратель отпирает дверь камеры Отто Квангеля.
Квангель, пробудившись от крепкого сна, жмурясь смотрит на шагнувшую в камеру крупную черную фигуру. Секундой позже сна уже ни в одном глазу, сердце бьется учащенно — он понял, что означает эта крупная, безмолвная фигура в дверях.
— Пора, господин пастор? — спрашивает он, а сам уже хватается за одежду.
— Пора, Квангель! — отвечает священник. И спрашивает: — Вы готовы?
— Я в любую минуту готов, — отзывается Квангель, касаясь языком ампулы во рту.
Он начинает одеваться. Движения его спокойны, неторопливы.
Секунду оба молча глядят друг на друга. Пастор — человек еще молодой, ширококостный, с простым, пожалуй, немного глуповатым лицом.
Не ахти какой, решает Квангель. Не чета доброму пастору.
Пастор же видит перед собой долговязого, усталого мужчину. Лицо с резким птичьим профилем ему не нравится, пытливый взгляд темных, странно круглых глаз тоже, как не нравится и узкий бескровный рот с крепко сжатыми губами. Однако священник берет себя в руки и говорит как можно дружелюбнее:
— Надеюсь, вы примирились с этим миром, Квангель?
— А мир достиг примирения, господин пастор? — в свою очередь спрашивает Квангель.
— Увы, пока нет, Квангель, увы, пока нет, — отвечает священник, и его лицо старается выразить огорчение, какого он не испытывает. Опустив этот пункт, он продолжает: — Но вы примирились с Господом, Квангель?
— Я в Господа не верю, — коротко отвечает Квангель.
— Как? — Резкое заявление чуть ли не испугало пастора. Помедлив, он продолжает: — Ну что же, коль скоро вы, возможно, не верите и в своего личного бога, то вы, наверно, пантеист, Квангель, так?
— А что это?
— Ну как же, ясно ведь… — Пастор пытается объяснить то, что ему и самому не вполне ясно: — Мировой дух, что ли. Все вокруг — Бог, понятно? Ваша душа, ваша бессмертная душа вернется в лоно великой мировой души, Квангель!
— Все вокруг — Бог? — переспрашивает Квангель. Уже одетый, он стоит возле нар. — Гитлер — тоже Бог? Убийство — Бог? Вы — Бог? Я — Бог?
— Вы поняли меня превратно, полагаю, нарочито превратно, — раздраженно отвечает священник. — Но я здесь не затем, Квангель, чтобы вести с вами религиозные дискуссии. Я пришел приготовить вас к смерти. Вы умрете, Квангель, через несколько часов. Вы готовы?
Вместо ответа Квангель спрашивает:
— Вы знали пастора Лоренца из следственной тюрьмы при Народном трибунале?
Пастор, снова выбитый из колеи, сердито говорит:
— Нет, но я о нем слышал. Смею сказать, Господь вовремя призвал его к себе. Он позорил наше сословие.
Квангель пристально посмотрел на священника:
— Он был очень хороший человек. Многие узники наверняка думают о нем с благодарностью.
— Да! — воскликнул пастор, уже не скрывая злости. — Потому что он вам потакал! Он был очень слабым человеком, Квангель. Слуга Господень обязан в военное время быть борцом, а не слабым соглашателем! — Он снова опомнился. Быстро глянул на часы. — У меня для вас всего восемь минут, Квангель. Есть и другие из ваших товарищей по несчастью, которые, как и вы, отправятся сегодня в последний путь, и я должен дать им пастырское утешение. Давайте помолимся…
Священник, ширококостный, неуклюжий крестьянин, вынул из кармана белый платок, осторожно развернул.
Квангель спросил:
— Вы и женщинам перед казнью даете свое пастырское утешение?
Насмешка была