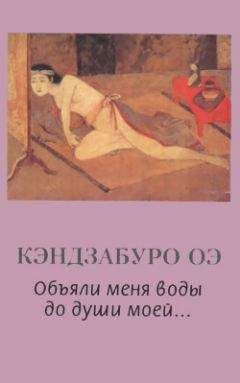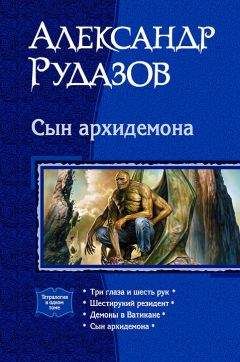Тогда я стал заводить об этом разговоры с пенсионерами из числа бывших работников зоопарка, но несколько недель спустя убедился в том, что пенсионеры хотят оставаться пенсионерами. Тем временем я закончил писать книгу, над которой тогда работал, и при нормальном положении вещей мне пора уже было снова пускаться в путешествия. Выхода, казалось, нет. Хоть я и нашёл временное решение: вернуться в Камусфеарну по весне и писать там книгу о Мидже,- всё это, очевидно, была лишь тактика проволочек. Тогда я обратился к своим друзьям в зоологических кругах с отчаянной мольбой: найти мне любыми путями попечителя для выдры на полную ставку. К тому времени, как такой человек нашёлся и готов был приступить к обязанностям, Миджа уже не было в живых.
То немногое, что мне остаётся рассказать в этой истории, я опишу вкратце, ибо тот, кто, читая это, разделил со мной хоть немного моих радостей жизни, должен также разделить и часть моего горя при его кончине.
Я собирался поехать в Камусфеарну и провести там весну и лето с ним наедине, там я должен был писать о нем книгу, которую уже задумал. Я собирался уехать из Лондона в начале апреля, но мне нужно было хоть на полмесяца освободиться от его постоянных покушений на моё время, и я договорился, что он поедет в Шотландию раньше меня на попечении одного друга. Я упаковал его "багаж", плетёную корзину, содержимое которой становилось всё более и более изысканным: запасная сбруя, поводки, банки с нешлифованным рисом, масло из печени трески, игрушки, частью разломанные, но всё ещё любимые, и отправился с ним в нанятой машине со своей квартиры на юстонский вокзал. Это был большой "Хамбер" с широкой полкой между спинкой заднего сиденья и задним стеклом. И вот я вспоминаю с ясностью, которая до сих пор отзывается болью, как он растянулся на спине и вертел в лапах мою авторучку или же прижимал её одной лапой к своему широкому блестящему пузу. Я обратил внимание своего попутчика на богатый лоск его меха, отражавшего неоновый свет. Он был в самом своём прирученном виде.
На вокзале он очень уверенно потянул за поводок мимо удивлённой публики на платформе вплоть до самого спального вагона, где немедленно направился к умывальной раковине и расположил своё пластичное тело в её контурах. Он поднял левую лапу и слегка потрогал кран. Больше я его не видел.
В течение последующих десяти дней я получал письма, где говорилось о восторге Миджа от своей вновь обретённой свободы, о рыбах, которых он поймал в речке и море, о том как он приходил очень усталый и сворачивался калачиком у огня, о тревожных часах его отлучек, о том, что, наконец, принято решение, что ему будет лучше без уздечки, которая, несмотря на все ухищрения и опыты, потраченные на её конструкцию, всё- таки могла зацепиться за какое-нибудь подводное препятствие и утопить его.
16 апреля я упаковал свой собственный багаж, и на следующий день должен был быть в Камусфеарне, когда мне позвонил управляющий усадьбой, куда входила и Камусфеарна. Он сказал мне, что прошёл слух, что в деревне милях в четырёх к северу от Камусфеарны убили выдру, а Мидж пропал. Однако было определённое противоречие: говорят, что убитая выдра была такой тощей и облезлой, что убийца даже не посчитал нужным сохранить шкурку. Подробных сведений не было.
Их так и нет по сей день, нет приличного конца, нет опознания тела, нет символических похорон у подножья рябинового дерева, нет человеческой доброты к тем, кто любил его и потратил целый день на его поиски, а дверь дома была открытой настежь всю ночь.
Я приехал в ту деревню на следующий день после обеда. Ещё на станции мне рассказывали противоречивые истории, на лодке, пока меня везли в деревню, и на пристани в той деревне. Кое-кто говорил, что убили очень старую выдру, а Мидж вернулся цел и невредим, другие говорили, что Миджа видели в селении в нескольких милях к югу от Камусфеарны. Я им не поверил, я уже знал, что Мидж погиб, но меня влекло неодолимое желание узнать, как и кем он был убит.
В деревне мне рассказали, что один дорожный рабочий ехал на своём грузовике мимо церкви, там он увидел выдру на дороге, граничившей с морем, и убил её. Шкурка была частично облезлая, и он её не сохранил.
Я выяснил, где живёт тот человек, и поехал туда мили за четыре в глубь побережья, чтобы увидеться с его семьёй. Я прибыл туда тайком, так как надеялся найти шкурку Миджа, прибитую гвоздями и сохнущую где-нибудь в окрестностях дома, чего бы мне не позволили увидеть, если бы я сначала стал спрашивать. Для меня это значило бы столько же, как найти скальп друга-человека, но мне всё-таки нужно было узнать.
В той семье мне сказали, что ничего не знают. Шкурка, говорили они, была такая невзрачная, что убивший выдру Большой Ангус, выбросил её ещё до того, как вернулся домой. Нет, они не знают, где. Большого Ангуса сейчас нет дома, он приедет попозже на мотоцикле, если я останусь в деревне, то может, и встречусь с ним.
Я дождался. Мотоцикл, наконец, приехал. Да, это правда, он убил вчера выдру, но также верно и то, что шкурка была наполовину облезлая, и он не посчитал нужным её сохранить. Разговаривал он со мной вежливо и весьма открыто.
Я попросил его показать мне, где же это случилось. Мы прошли с ним метров двести назад к крутому повороту, где небольшая церквушка с погостом стояла между дорогой и морем. Он ехал по дороге на грузовике, а выдра была вон там, прямо над дорогой в канаве. Он остановил грузовик. Теперь мне стало всё предельно ясно.
- Как же вы убили её? - спросил я. - Палкой?
- Нет, майор, - ответил он, - у меня в кузове машины была колотушка.
Он полагал, что дикая выдра будет ждать его на дороге, пока он будет ходить за орудием её смерти. Он настаивал на своей версии, по его словам, выдра, которую он убил, не могла быть моей.
- Она была старая и очень худая, - снова и снова повторял он. - Я бросил тушку в речку, а точно не помню где.
Его очень хорошо проконсультировали, и они очень хорошо отрепетировали все ответы, как я узнал об этом гораздо позже, когда он со страху стал спрашивать, как ему быть. Храбрый убийца, за ложь и обман я готов был убить его на месте с таким же легкомыслием, с каким он уничтожил создание, которое я привёз за столько тысяч миль, убил его быстро и предательски, когда Мидж вовсе и не ожидал этого, он и не подумал даже, что наказание за это будет как за преступление.
А я по глупости взывал к тем чувствам, которых у него не было. Я умолял его рассказать мне всё, пытался дать ему понять, каково мне будет жить в Камусфеарне и изо дня в день ждать его возвращения, в которое я уже не верил. А он всё стоял на своём.
Позднее я узнал об этом от одного более гуманного человека.
- Не могу видеть, как вас обманывают, - сказал он. - Это просто даже неприлично, а правда такова. Я видел тушку зверька на грузовике, когда тот остановился в деревне. Ни волоска на ней не было попорчено, кроме как на голове, которая была проломлена. Если он до того и не знал, что она ваша, то потом уж точно узнал, так как я сказал ему: "Если ты посчитал, что это дикая выдра, то тебе надо лечиться. Неужели ты думаешь, что дикая выдра стала бы дожидаться, пока ты будешь её убивать ясным белым днём?"
Он просто-напросто лжёт вам, а я только представил себе, как вы будете искать и звать вашего зверька у ручья и кромки прибоя каждый день, и просто не смог стерпеть, - ведь он давно уже погиб.
По кусочкам я собрал всю историю. Последние несколько дней Мидж бродил по округе как неприкаянный. И хотя всегда возвращался домой ночевать, он, должно быть, заходил довольно далеко, так как однажды забрёл в избушку в восьми милях к югу по побережью. Там его узнали и не причинили никакого вреда, а на следующий день он отправился на север, где его и убили. Чуть раньше его узнали и там, кто-то заметил выдру у себя в птичнике, побежал было за ружьём, а затем обратил внимание, с каким безразличием выдра относилась к курам и сделал правильный вывод. Мидж уже шёл домой, когда встретился с Большим Ангусом, а ведь его никто не учил тому, чтобы бояться или не доверять человеку. Хочу думать, что его убили быстро, но жаль, что ему не удалось показать свои зубы убийце.
В тот вечер, как я уехал из Лондона, он прожил со мной ровно год и один день.
Глава 11
Я очень тосковал по Миджу, так сильно, что только год спустя заставил себя вернуться в Камусфеарну. Я горевал по своему павшему воробышку, он так полно занимал собой этот пейзаж, настолько освоился в каждом ярде кольца светлой воды, который я так любил, что после его ухода оттуда, он казался мне пустым и никчёмным. Впервые все знакомые вещи, которые приносили мне радость, теперь представлялись мне фоном сцены, на которой не было артиста. Когда я узнал, что он погиб, то не остался там, а сразу же вернулся на Сицилию и занялся работой, которую задолго до этого мне пришлось прервать. По мере того, как медленно тянулись летние месяцы под палящим солнцем, тот год, что я провёл в обществе выдры, и даже сама Камусфеарна, иногда казались мне просто сном. Я не мог не признаться самому себе, как сильно повлияла на меня смерть этого дикого зверька, и в то же время внутренний голос ставил под сомнение правомерность, возможно, моральное соответствие такого отношения перед лицом человеческих несчастий, окружавших меня. Подобно моим занятиям на острове Соэй, этот год теперь представлялся мне лишь эпизодом жизни, четко очерченным в начале и конце, у которого не может быть продолжения, но как и в тот раз я оказался не прав. С Сицилии я вернулся осенью и переехал в район Челси, отчасти, должен признаться, потому, что все те приспособления для выдры, которыми изобиловала квартира, постоянно и навязчиво напоминали мне о том, что я не смог сохранить жизнь животному, которому уделял столько внимания. Но я так привык к постоянному присутствию животного в доме, что, когда однажды у Хэрродза увидел лемура с хвостом колечками, который ещё недавно был собственностью Сирила Конноли, меня не остановила от легкомысленного поступка даже цена в семьдесят пять фунтов стерлингов. Кико, так её звали, стала жить у меня в новой квартире. Кико была прекрасным животным, значительно больше по величине крупной кошки, это было создание высшего класса с мягким голубовато-серым мехом, с лисьей черно-белой мордочкой, большим пушистым хвостом с перемежающимися черными и белыми кольцами, золотыми глазками, обезьяньими лапками с прямыми, острыми как иголки, когтями и с повадками, которые были антисанитарны и неприличны. Большую часть времени у неё почти постоянно была течка, однако внешне это проявлялось не столько в горячности, сколько во влажности. К тому же у неё был такой сильный психоз, что она годилась в ручные животные так же, как попавший в неволю леопард. В течение девятисот девяносто девяти минут из каждой тысячи она была такой ласковой и нежной, что только ребёнок мог такое пожелать, а в оставшуюся минуту она превращалась в убийцу, нападающего безо всякого предупреждения и повода, и всегда при этом сзади. Её техника нанесения тяжких телесных повреждений заключалась в том, что она спрыгивала с какого-либо высокого шкафа на плечи, - а она легко прыгала метров на шесть, - и начинала выцарапывать глаза своими острыми когтями. Какова бы ни была первоначальная травма, вызывающая такое жуткое предательство, полагаю, что она каким-то образом была связана с окнами.