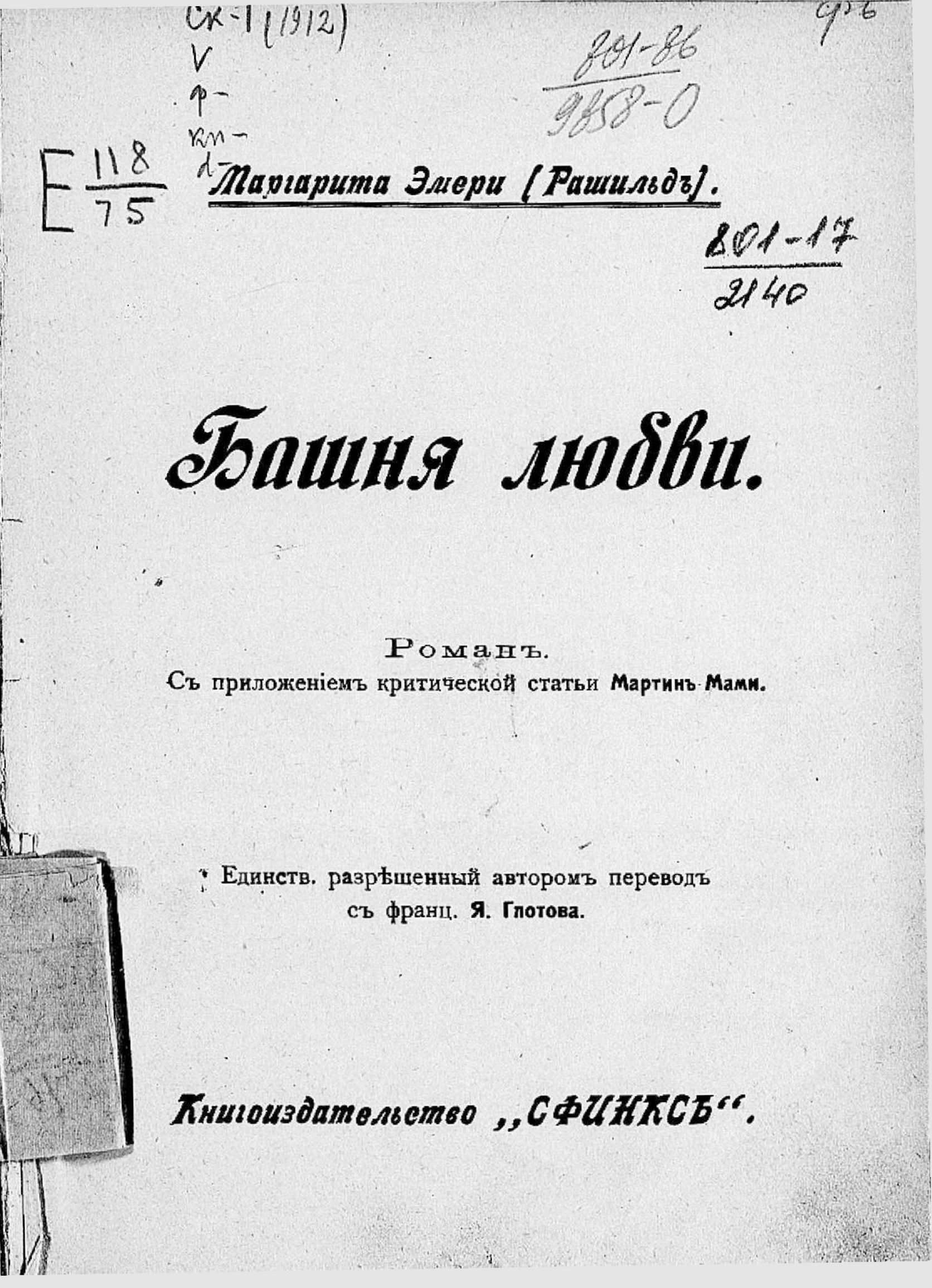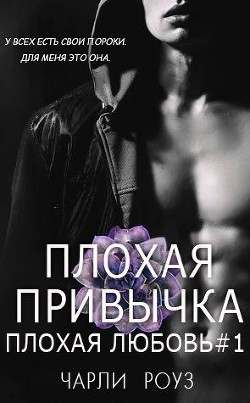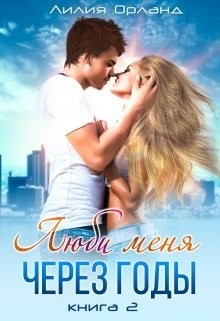старухи:
— Черт возьми! Да ведь это смерть! Сама смерть...
Старик сидел передо мной, опустив голову. Наконец, он вымолвил:
— Сколько ступеней? Их... их двести десять, не считая остальных.
Конечно, прежде всего этот старик — мое начальство, и я должен его почтительно выслушивать благодаря его громадной опытности; однако, эта первая фраза, которую он произнес с таким трудом, произвела на меня очень странное впечатление, может быть, благодаря тому, что мы оба находимся в темноте, а может быть, благодаря ее тону.
Голос старика не то пел, не то рыдал, разобрать было трудно, и как-то особенно дрожал на звуке — а. А слова... их точно кто-то вытаскивал щипцами.
Я не мог смеяться, потому-что еще не отдышался от соленой воды. Во время выгрузки мне было очень легко захлебнуться и утонуть. Еще хорошо, что она во время кончилась, а то бы мне не удержаться...
Вокруг нас поднималась ночь.
На море ночь никогда не спускается сверху, она поднимается снизу, от волн; можно подумать, что вода обращается в облака, в перевернутое небо.
Меня совершенно растрепало и я чувствовал себя страшно одиноким, несмотря на присутствие старика.
Мы обедали в „столовой” маяка Ар-Мен. Маленькая, низкая и круглая комната, освещаемая днем сводчатой дверью, выходящей на эспланаду, а вечером небольшой керосиновой лампой, подвешенной к потолку, которая так коптила под своим цинковым колпаком, что был виден только огонь ее фитиля. Нас разделял старый стол из тяжелого дерева: на нем лежал хлеб с ветчиной, стоял кувшин сидра и бутылка с ромом. Супа не было, так как в доме не было кухарки. Пища состояла из консервов, забракованных во флоте, а за эти изысканные напитки расплачивался наличными старик. В качестве столового сервиза мы обладали двумя большими цинковыми глубокими тарелками и двумя ножами с роговыми ручками. Все это — очень солидно и прочно. Несомненно, что ветру не удалось бы снести эти приборы. Наши табуретки привязаны к ножкам стола крепкими кручеными шпагатами. По стенам развешены: портреты Наполеона, и нашего последнего Президента, большой календарь, на котором чернилами подчеркнуты по несколько раз все даты самых больших приливов, и наконец, в черной раме за стеклом расписание всей нашей службы: часы вахты, часы обхода, часы отдыха, а также как поправить механизм фонаря, когда в нем что-нибудь испортится «вдали от всякой помощи», с рисунками и с бесконечными объяснениями, одним словом, все то, что каждый должен знать наизусть. Большие старые бретонские часы осторожно отмеряли время, производя такой звук, точно кто-то метлой из твердых прутьев подметает гравий. Рядом с ними находились казенные морские часы в ящике со стенками из толстого стекла. Их рычаги, гирьки, колесики, блестевшие как серебряный сервиз, были полны тайны. Чтобы в них что-нибудь понять, приходилось столько тратить времени, что старинные часы, бывшие всегда позади, уставали вас догнать на каком-нибудь повороте стрелки. Эти казенные часы, присланные из Парижа, показывали дни, месяцы, годы, время приливов и отливов, все атмосферические изменения равноденствий, сильные ветры, а когда на море начиналось большое волнение, то выскакивал маленький кораблик, как бы предвещавший возможность появления судна около опасного маяка! Только... насколько я могу судить по тому, что бывало, они появляются не всегда в очень подходящих для них местах.
Пока я разглядывал нашу конуру, старик упорно смотрел на пол, на этот каменный пол, цементированный на нескольких футах скалы. Он больше ничего не говорил и, как будто бы, ничего не слышал, жуя так громко, что стук его челюстей заглушал метлу бретонских часов.
Я вспомнил его фразу:
— Не считая остальных?
На этом маяке было действительно двести десять ступенек, начиная от подножья скалы до его стеклянной головы. Куда же вели остальные ступени?
— Остальные? Разве тут есть погреб?
Ведь вы, я думаю, не считаете внешние железные скобы?
Те, что ведут к лебедке?
Одной гримасой своего рта беззубой старухи, он ответил — нет.
Я недурно соображал в те годы, и, прикинув в уме высоту маяка, ясно представил себе все эти двести десять ступеней по прямой линии, однако...
Я так никогда и не получил объяснения, что это были за ступени!
Старик страшно горбился; можно было предположить, что он так и родился сложенным вдвое, напоминая какое-то четвероногое. Когда он поднялся со стула, то мне показалось, что он все еще сидит! Длинные и толстые, как вальки, руки почти волочились по земле, собирая осторожно все, что попадалось. Он подобрал сначала свои хлебные крошки, потом мои, затем, пошарив под табуреткой, захватил там кусочки ветчинного сала, которые он выплевывал во время еды. Положив на край стола кучку сора, собранного на полу, он смахнул ее рукавом по направлению к двери, то есть, якобы наружу. Затем он налил себе полчашки рома, медленно выпил, покачивая головой точно, пробуя его, и мне не предложил. Это меня обидело.
Чуть не утонув и не успев еще высохнуть, с отвратительным ощущением в желудке, я нуждался в лучшем десерте. Я привык к горячим супам в матросских столовых порта. Правда, они не отличались там особым наваром, но зато кипели ключом, и это заставляло нас забывать вкус морской воды. Кроме того, только что, вступив в этот дом, который делался отчасти и моим, я думал, что имею некоторое право на более сердечный прием. Один человек всегда стоит другого! Если я и оказывался подчиненным, то нас ведь было только двое между небом и скалой, и это обращало нас в братьев, несмотря на разницу лет.
Однако, я сделал вид, что не замечаю ничего.
Может быть, им неугодно знакомиться сегодня.
Посмотрим завтра.
А пока, надо заняться службой.
Я помог убрать в ящик все наше небольшое хозяйство: ножи и цинковые тарелки. Хлеб мы накрыли тряпкой, которая не отличалась особенной чистотой, а ветчину спрятали в глубине шкапа с жестянками керосина. Старик поставил свой ром внутри футляра бретонских часов, в задний уголок, куда не достигал маятник. Это его добро, и, конечно, ни у кого не было намерения покушаться на его фляжку!
Чтобы показать ему свое старание, я самым серьезным образом исследовал барометры. Разобрал, что они указывают усиление воздушных, течений, и пустил в ход все ученые слова, которые только были мне известны. Старик слушал меня, стараясь понять. Его красные глаза вращались, как рулевое колесо, и все его лицо, эта маска старухи, умершей от перепоя, приняло насмешливый вид. Он направился к двери, и этот овальный зев кита выблевал его, как воплощенный ужас;