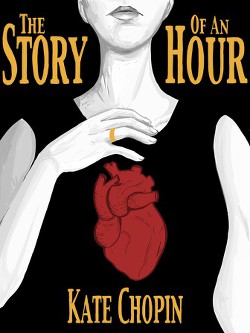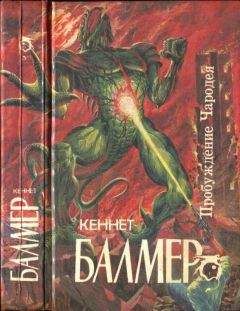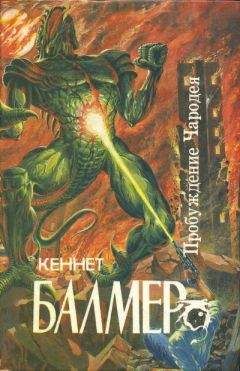собой. Она дышала тяжело, как загнанный вол. Около лестницы, на которую она не смогла бы подняться, Чокнутая передала ребенка на руки отцу. И тогда этот мир, который раньше казался ей красным, вдруг почернел, как в тот день, когда она увидела порох и кровь. Она пошатнулась и, прежде чем руки людей могли подхватить ее, рухнула на землю.
Когда Чокнутая пришла в себя, она снова была у себя дома, на своей кровати в своей хижине. Через открытые окна и дверь внутрь проникал лунный свет, освещая комнату достаточно хорошо, чтобы старуха негритянка смогла приготовить настой из душистых трав. Было уже очень поздно.
Остальные, кто приходил раньше, увидели, что беспамятство не покидает бедняжку, и снова ушли. Пти Мэтр был здесь вместе с доктором Бонфилем, который сказал, что Чокнутая может умереть.
Но смерть обошла ее стороной. И она говорила с тетушкой Лизетт, варившей настой в уголке, ясным и твердым голосом:
– Коли ты дашь мне хорошего настою, тетушка Лизетт, я точно засну, разрази меня Господь.
И она заснула таким глубоким, таким здоровым сном, что старая Лизетт без колебаний тихонько улизнула через залитые лунным светом поля и пробралась в новый поселок к себе домой.
Чокнутая проснулась на рассвете прохладного серого утра. Она встала очень спокойно, как будто и не было той бури, что пронеслась накануне и угрожала самому ее существованию. Но это было вчера. Она оделась в новый голубой ситцевый халат и белый фартук, поскольку помнила, что было воскресенье. После того как она приготовила себе чашку крепкого черного кофе и, смакуя, выпила его, она вышла из хижины и снова отправилась через старое знакомое поле к берегу ручья.
Она не остановилась там, как всегда делала раньше, но пересекла его широким, твердым шагом, как будто всю жизнь только здесь и ходила.
Когда женщина пробралась сквозь тополиную поросль на противоположном берегу, она очутилась на краю поля, где лопались белые коробочки хлопчатника, покрытого росой, и блестели во все стороны на многие акры, как иней на рассвете.
Чокнутая делала глубокие долгие вздохи, озираясь по сторонам. Она шла медленно и неуверенно, как будто не знала, как это делать, и смотрела себе под ноги.
В домиках, откуда вчера за ней следовал хор голосов, теперь было тихо. Никто еще не вставал в Белиссиме. Только птицы проснулись на ветках и метались туда-сюда, перелетая с изгороди на изгородь и щебеча свои утренние песни.
Когда Чокнутая добралась до широкой бархатистой лужайки перед домом, она замедлила шаг, с наслаждением ступая по упругому дерну, который так мягко пружинил под ее ногами.
Она остановилась, чтобы понять, откуда доносятся эти ароматы, что пробудили в ней воспоминания давно минувших дней.
Вот они подкрадываются к ней из-под тысяч синих фиалок, кивающих с зеленых пышных клумб. А вот они низвергаются с крупных восковых чашечек магнолий над ее головой и с растущих повсюду кустов жасмина.
И конечно, там были розы без числа. А справа и слева раскинулись широкими изящными дугами пальмы. Все это было похоже на волшебство под искрящимся блеском росы.
Когда Чокнутая медленно и осторожно взобралась по высоким ступенькам, ведущим на веранду, она обернулась, чтобы посмотреть на страшный подъем, который она одолела, и тогда ее глазам открылась река, изгибающаяся, как серебряный лук, внизу, рядом с Белиссимом. Восторг овладел ее душой.
Она тихонько постучала в дверь. Вскоре ей осторожно открыла мать Шери. Увидев Чокнутую, она быстро и умело скрыла удивление:
– А, Чокнутая! Это ты, так рано?
– Да, мадам. Я так рано, чтоб узнать, как там мой бедный Шери поживает утречком.
– Ему лучше, спасибо, Чокнутая. Доктор Бонфиль говорит, ничего серьезного. Мальчик спит сейчас. Ты придешь, когда он проснется?
– Не, мадам. Я уж подожду, когда вы велите Шери просыпаться.
Чокнутая присела на верхнюю ступеньку веранды.
Восторг и глубокое удовлетворение проступило на ее лице, когда она впервые увидела восход солнца над этим новым, прекрасным миром за ручьем.
Когда началась война, на Кот Жуаёз стоял величественный особняк красного кирпича, сложенный как Пантеон. Его окружала роща царственных дубов.
Через тридцать лет на этом месте остались только стены, и тусклый красный кирпич местами проглядывал сквозь разросшиеся виноградные плети. Нетронутыми остались огромные круглые колонны и в определенной степени каменный пол зала и портика. В прежние времена на всем Кот Жуаёз не было столь представительного дома. Все знали это, как знали и то, что его постройка обошлась Филиппу Вальме в шестьдесят тысяч долларов – тогда, в 1840 году. Никому не грозило забыть этот факт, пока жива была его дочь Пелажи. Это была седовласая женщина лет пятидесяти с горделивой осанкой королевы. «Мэ’эм Пелажи» – так ее называли, хотя она не была замужем, как и ее сестра Полин, дитя в глазах мэ’эм Пелажи, тридцатипятилетнее дитя.
Обе женщины жили в домике, состоящем из трех комнат, можно сказать, в тени развалин. Они жили мечтой – то есть мечтой мэ’эм Пелажи – заново отстроить старый дом.
Рассказ о том, как были потрачены их дни, отданные во имя достижения этой цели, как эти тридцать лет копились доллары, как складывались в тайник медяки, вызвал бы сострадание. И все же не было накоплено даже половины! Но мэ’эм Пелажи не сомневалась, что у нее впереди еще двадцать лет жизни, а у ее сестры и того больше. А чего только не происходит за двадцать, а тем более за сорок лет!
Частенько в теплое послеобеденное время обе посиживали за черным кофе, расположившись в вымощенном каменными плитами портике, крышей которому служило синее небо Луизианы. Они любили сидеть в тишине вдвоем, и только блестящие любопытные ящерицы сновали тут и там, составляя им компанию. Сестры беседовали о старых временах и планировали будущее, а легкий ветерок чуть шевелил растрепанные плети винограда на самом верху колонн, где гнездились совы.
– Мы не можем надеяться, что сделаем все так, как прежде, Полин, – рассуждала мэ’эм Пелажи. – И возможно, мраморные колонны в салоне придется заменить на деревянные. И хрустальных канделябров больше нет. Ты согласна, Полин?
– О, да, сестрица, я согласна.
Бедняжка мам’зель Полин отвечала всегда только: «Да, сестрица». Или: «Нет, сестрица». Или «Как хочешь, сестрица». Ведь что она могла помнить из прежней жизни и прежнего великолепия? У нее остались только слабые проблески отдельных воспоминаний: сначала едва осознанное, не отмеченное особыми событиями существование юного существа, а потом полный крах. Иными словами, приближение войны, восстание рабов, неразбериха