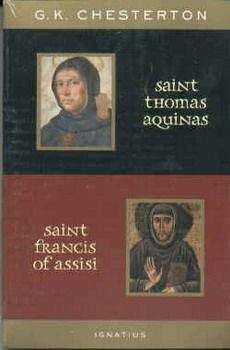аргументации, а Робеспьер – теистическую. Революция взывала к идее абстрактной и вечной справедливости, стоящей выше всех местных обычаев и традиций. Если существуют заповеди Бога, то должны существовать и права человека. Здесь Бёрк прибег к блестящему отвлекающему маневру: он напал на доктрину Робеспьера, вооружившись не старой средневековой доктриной
jus divinum [185] (которая, как и доктрина Робеспьера, была теистической), а современным аргументом научной относительности, короче говоря, аргументом эволюции. Он предположил, что человечество повсюду сформировано или приспособлено к окружающей среде и институтам. Фактически каждый народ на практике получал не только тирана, которого он заслуживал, но и тирана, которого он должен был иметь. «Я ничего не знаю о правах человека, – сказал он, – но кое-что знаю о правах англичан». Вот он, настоящий атеист. Его аргумент состоит в том, что мы находимся под защитой естественного случая и роста; и с какой стати покушаться мыслью выйти за эти пределы, как если бы мы были образом Божьим! Мы рождены под властью Палаты лордов, как птицы под крышей из листьев; мы живем при монархии, как негры живут под тропическим солнцем: не их вина, что они рабы, и не наша вина, что мы снобы. Таким образом, задолго до того, как Дарвин нанес свой великий удар по демократии, суть дарвиновского аргумента уже выдвигалась против Французской революции. Человек, фактически сказал Бёрк, должен приспосабливаться ко всему, как животное; он не должен пытаться все изменить подобно ангелу. Последний слабый крик благочестивого, прекрасного, наполовину искусственного оптимизма и деизма восемнадцатого века прозвучал голосом Стерна, который сказал: «Бог смягчает ветер для остриженного ягненка». И Бёрк, в душе железный эволюционист, ответил: «Нет; Бог закаляет остриженного ягненка ветром». Это ягненок должен приспосабливаться. То есть он либо умирает, либо становится особенным ягненком, который любит стоять на сквозняке.
Подсознательное общественное предубеждение против дарвинизма было вызвано не просто оскорбительно-гротескной идеей навещать дедушку в вольере Риджентс-парка. Мужчины выпивают, устраивают розыгрыши и делают много других гротескных вещей; они не очень-то возражают против того, чтобы вести себя как животные, и не очень-то возражали бы, если бы их предки так себя вели. Настоящее предубеждение лежало намного глубже и было намного более ценным. Дело в том, что, когда кто-то начинает думать о человеке как о непостоянном и изменяемом объекте, сильному и хитрому всегда легко придать человеку новые формы для самых разных неестественных целей. Народное чутье видит в такой тенденции угрозу, что спина человека будет согнута под чужой ношей, а конечности вывернуты для выполнения чужих задач. У народа есть весьма обоснованное предположение, что все, что делается стремительно и систематически, в основном делается правящим классом и почти исключительно в его интересах. Таким образом, народу видятся нечеловеческие гибриды и эксперименты с получеловеком, во многом напоминающие «Остров доктора Моро» [186] мистера Уэллса. Богатый человек может разводить карликов, чтобы те стали его жокеями, и гигантов, чтобы те служили ему носильщиками. Конюхов можно выращивать кривоногими, а портных – со скрещенными ногами; парфюмеры могли бы иметь длинные большие носы и двигаться на полусогнутых, как гончие в погоне за новым запахом; на лицах профессиональных дегустаторов с младенчества отпечаталась бы ужасная гримаса. Какой бы дикий образ мы себе ни представляли, он не сможет поспеть за паникой человеческой фантазии, стоит лишь намекнуть, что определенное существо, называемое человеком, изменчиво. Если миллионеру требуются руки, то носильщик должен будет отрастить восемь рук, как осьминог; если нужны ноги, то какой-нибудь посыльный будет бегать на сорока ногах, как сороконожка. В искаженном зеркале гипотезы, то есть неизвестного, люди смутно различают такие чудовищные и злые формы: весь человек сведется либо к одним только глазам или к одним только пальцам, и не останется ничего, кроме одной ноздри или одного уха. Таким кошмаром грозит нам одно только слово про адаптацию. И этот кошмар не так уж далек от реальности.
Скажут, что ни один самый ярый эволюционист на самом деле не попросит нас стать в какой-то мере нелюдьми или копировать животных. Прошу прощения, но именно к этому призывают не только самые ярые, но и некоторые из самых покладистых эволюционистов. В новейшей истории сложился заметный культ, который справедливо претендует на роль религии будущего, то есть религию немногих слабоумных людей, кто живет будущим. Для нашего времени характерно, что нам приходится искать своего бога под микроскопом, и наше время мечено явным обожанием насекомых. Конечно, как и большинство вещей, которые мы называем новыми, это совсем не новая идея; ново только само идолопоклонство. Вергилий серьезно относится к пчелам, но я сомневаюсь, что он бы заботился о пчелах с той же тщательностью, с какой писал о них. Мудрый король велел лентяю присмотреть за муравьем – очаровательное занятие для лентяя. Но в наше время зазвучал совсем иной тон, и не один великий человек, а бесчисленное множество умных людей сейчас всерьез предлагают нам изучать насекомое, потому что мы хуже него. Старые моралисты просто взяли добродетели человека и довольно декоративно и произвольно распределили их среди животных. Муравей был геральдическим символом трудолюбия, так же как лев – храбрости или, если уж на то пошло, пеликан – милосердия. Но если бы средневековые люди убедились, что лев не отважен, они бы оставили льва в покое и сохранили бы храбрость. Они сказали бы, что, если пеликан не проявляет милосердия, тем хуже для пеликана. То есть старые моралисты позволяли муравью олицетворять собой человеческую мораль, но они бы ни за что не позволили муравью отменить нравственность. Они использовали муравья для олицетворения прилежания, так же как жаворонка – в качестве символа пунктуальности; они смотрели вверх на машущих крыльями птиц и вниз на ползающих насекомых, извлекая простой урок. Но мы дожили до того, что получили секту, которая смотрит на насекомых не свысока, а снизу вверх; которая, как древние египтяне, просит нас, по сути, встать на колени и поклоняться жукам.
Морис Метерлинк [187], бесспорно, гений, а гений всегда имеет при себе увеличительное стекло. В ужасном кристалле его линзы мы видели пчел не как маленький желтый рой, а как золотые армии и иерархии воинов и королев. Воображение постоянно всматривается и идет все дальше по проспектам и перспективам пробирок науки, и каждый воображает неистовую инверсию пропорций: уховертку, шагающую по гулкой равнине, как слон, или кузнечика, ревущего над нашими крышами, будто огромный самолет, несущийся из Хартфордшира в Суррей. Кажется, что во сне мы входим в огромный храм энтомологии, чья архитектура основана на чем-то более диком, чем