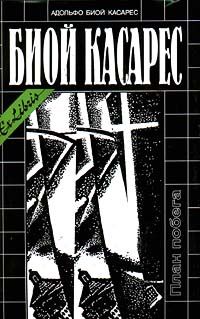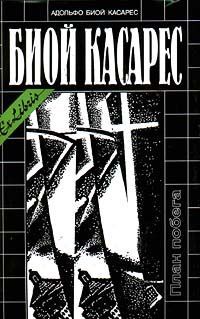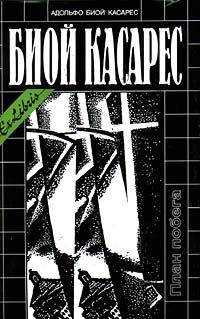долгое дело, а так швейцар меня не пустит, хоть торчи у входа до следующего карнавала.
Сантьяго серьезно посмотрел на него и через несколько секунд неторопливо спросил:
– Ты знаешь, сколько тебе придется там истратить? Самое малое, пять песо – говорю тебе, самое малое. Ты садишься и рта не успеваешь раскрыть, тебе уже наливают шампанского, а когда к тебе подкатится какая-нибудь красотка, уже можешь затыкать уши: тебе открывают новую бутылку, потому что сеньорита не пьет шампанское твоей марки, у нее свои, особые вкусы. А посидишь еще – держи ухо востро, потому что к твоему бумажнику уже пристроен таксиметр, и когда наконец соберешься спросить счет и убраться подобру-поздорову, не забудь про чаевые, ведь если официантам не угодишь, они вытолкают тебя взашей и передадут швейцару, а уж тот так тебе поддаст, что очнешься в участке, где тебя оштрафуют за буйство.
Они покончили с мате. Немой, неприметный, как всегда, обтягивал рукоять весла новой кожей. Сантьяго прохаживался по причалу взад и вперед с трубкой в зубах и в своем просторном синем свитере казался старым морским волком. Они распрощались.
– Ну ладно, Эмилио, – ласково сказал Сантьяго, – теперь не пропадай навсегда.
XXXIII
Гауна пересек парк и, обогнув Зоологический сад, вышел на площадь Италии. От холода он шагал очень быстро и выдохся. Какое-то время он ждал 38-го трамвая, но когда тот пришел, оказалось, что вагон набит людьми, ехавшими со скачек. Гауна кое-как уцепился за поручни задней площадки; озябший, устав висеть на подножке, доехал до центра, вышел на углу Леандро Алем и Корриентес, и сказал себе, что немного пройдется по кафе (он имел в виду «кабаре») на проспекте Двадцать пятого мая.
В третью карнавальную ночь 1927 года они пили в каком-то из этих кабаре, прежде чем зайти в театр «Космополита». Теперь он хотел бы его узнать. Но ему было так холодно и он так устал, что просто не смог должным образом продолжить расследование: сказать по правде, он вошел в первое из этих заведений, попавшееся ему на пути. Кабаре называлось «Синьор»; его вестибюль, глубокий, узкий и красный, разрисованный языками пламени и чертями, без сомнения представлял собой вход в ад или, по крайней мере, в адскую пещеру; на стенах висели раскрашенные фотографии женщин с кастаньетами, с шалями на плечах, в яростных позах, танцовщиков во фраках и цилиндрах и девочки с ямочками на щеках – она плутовски улыбалась, прищурив один глаз. Внутри две женщины танцевали танго, которое наигрывала одним пальцем на пианино третья. Четвертая женщина смотрела на них, облокотясь о стол. Двое официантов за стойкой шустро перемывали стаканы. Несколько столов были накрыты, на остальных еще торчали перевернутые стулья. Гауна толкнул дверь, чтобы уйти.
– Желаете что-нибудь, уважаемый? – спросил один из официантов.
– Я думал, у вас открыто… – объяснил Гауна.
– Садитесь, – предложил ему официант. – Не станем же мы вас выгонять, если вы пришли пораньше. Что вам подать?
Гауна дал ему шляпу и сел.
– Двойную граппу, – сказал он.
Он подумал, что быть может они в ту ночь побывали именно здесь. Исподтишка он оглядел женщин; одна из танцевавших походила на низкорослого индейца, у другой (как потом он рассказывал Ларсену) «было совсем глупое лицо». Та, что играла на пианино, была маленькой и большеголовой. А опершись о стол, сидела блондинка с лицом овцы. Эта последняя нехотя поднялась; Гауна с тревогой подумал: «Она идет сюда». Женщина подошла, осведомилась, не помешает ли, и села за столик Гауны. Когда приблизился официант, женщина спросила Гауну:
– Угостишь меня содовой?
Гауна кивнул.
– И пожалуйста, плесни туда побольше виски, – велела женщина официанту.
Чтобы скрыть замешательство, Гауна заметил:
– Не люблю холодный чай.
Женщина принялась объяснять целебные свойства виски, заверила, что принимает его по указанию врача и «потому что, поверь, это вкусно», и затем пустилась подробно описывать болезни, главным образом, желудка и кишечника, которые долго преследовали ее, так что она похудела до неузнаваемости, и теперь доктор Рейнафе Пуйо, с которым она познакомилась совершенно случайно однажды на рассвете, лечит ее виски и другими менее приятными на вкус напитками, от чего она делается сама не своя и лежит, точно больная, в постели, держа на животе платок, смоченный одеколоном. Гауна слушал ее с волнением. Он признавался себе (хотя и со стыдом), что его опыт общения с женщинами невелик и если он оказывается с девушкой – не с теми дурочками из его квартала, а с другими, – он немного трусит и невольно подчиняется ей. Гауна попросил официанта повторить и подумал: «У этой женщины знакомое лицо» (а может, оно казалось ему знакомым, потому что такие лица со своими вариациями и особенностями встречаются у многих). После того как Гауна выпил третий бокал двойной граппы, женщина призналась, что ее зовут «Баби» – она произнесла именно так, а он осмелел и спросил, не встречались ли они здесь же во время карнавала года два-три назад.
– Я был с друзьями, – объяснил он и после паузы добавил другим тоном: – Вы должны помнить. С нами еще был сеньор в возрасте, довольно плотный и почтенный с виду.
– Не знаю, о чем вы говорите, – ответила Баби с явным беспокойством.
– Ну напрягитесь: вы должны помнить, – настаивал Гауна.
– Что значит должна. Хватит. Кто вы такой, чтобы являться сюда и меня раздражать, когда доктор как раз сказал, что для меня нет ничего хуже, чем раздражаться.
– Успокойтесь, – сказал Гауна улыбаясь. – Я не собираюсь ничего вам продавать, и я не полицейский, который расследует убийство. К тому же мне вовсе не хочется, чтобы вы раздражались.
Гнев женщины немного поутих. Если представится еще один удобный случай, как сегодня, Гауна снова навестит Баби; со временем может он что-нибудь и вытянет из нее; она не дурочка, это ясно.
– Когда женщина заговорила, в ее голосе прозвучали успокоительные, вкрадчивые нотки.
– Обещайте мне, что будете хорошим и не станете спрашивать о неприятном.
Гауна посмотрел на часы и подозвал официанта. Было уже восемь; он доберется до дома Колдуна не раньше девяти. Женщина спросила:
– Ты меня бросаешь?
– Ничего не поделаешь, – ответил Гауна и, предупреждая всякие возражения, прищурился, указал на нее пальцем, словно убеждая или обвиняя, и твердо добавил: – Эту физиономию я уже видел прежде.
– Вы опять за свое, – откликнулась Баби с улыбкой.
Она разгадала тактику Гауны, подхватила его шутку, но предпочла не удерживать его.
Гауна заплатил за все без возражений, сказал Баби: «Ну пока, детка», быстро взял шляпу и ушел. Бегом он пустился по Лавалье и тут же сел в подошедший трамвай. Несмотря на холод, он остался на площадке (вагон, как церковь, предназначается для женщин, детей и стариков). Кондуктор посмотрел на него и как будто собирался что-то сказать, но потом передумал и обратился к остальным:
– Проходите внутрь, сеньоры, пожалуйста.
Гауна сердился