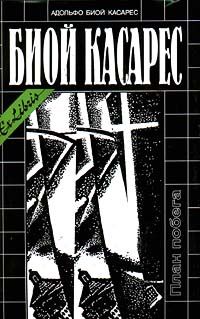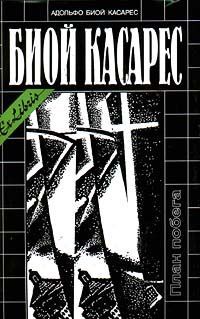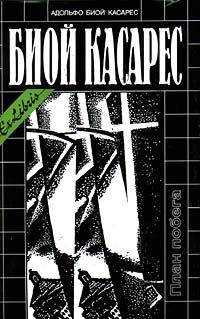даже хуже – каталонским анархистом. Теперь, благодаря своей выдающейся коллекции спичечных коробков, он был вхож в лучшие дома. «Каких только глупостей не наслушаешься на прощании с покойником», – подумал Гауна.
– Если вникнуть хорошенько, – продолжал Гомес, – то смерть Сократа – настоящее самоубийство. И смерть… этого…
(Он забыл второй пример, сказал себе Гауна.)
– И даже смерть Юлия Цезаря. И Жанны д’Арк. И Солиса, которого съели индейцы.
– Эваристо прав, – провозгласил фармацевт.
Гауна успокоился. Поляк из лавки, с голубыми глазами и сонным лицом, похожий на толстого дремлющего кота, объяснял:
– Меня больше всего беспокоит лестница… такая узкая… Не знаю, как они станут спускать катафалк…
– Гроб, тупица, – поправил его фармацевт.
– Да, вот именно, – продолжал поляк. – В домах я прежде всего я обращаю внимание на ширину лестницы… не знаю, как будут его выносить.
Очень недурной из себя молодой человек, на которого Гауна поглядывал с недоверием, спрашивая себя, не из тех ли он, кто ходит на проводы умерших, чтобы выпить кофе, возбужденно заявил:
– Это форменное безобразие, что вытворяют в такой час соседи с третьего этажа. Запускают музыку, хотя прекрасно знают, что здесь у нас лежит покойник. Так и хочется заявить официальный протест привратнику.
Поверх осыпанной перхотью шали на плечах сеньора Гомеса Гауна увидел, что кто-то здоровается с Кларой. «Кто этот головастый», – подумал он. Гауне показалось, что он где-то видел этого бледного, светловолосого человека. «Похоже, они знакомы. Надо будет спросить у Клары, кто это. Но только не сейчас. Сейчас неудобно, – сказал он себе. – Однако надо обязательно спросить ее, кто это такой».
Хилый сеньор Гомес продолжал:
– Мы цепляемся за жизнь изо всех сил. Великий человек знает, когда ему уйти, и уходит, как Табоада, без лишней борьбы, быстро, решительно, почти весело.
Под предлогом того, что надо поздороваться, Гауна подошел к дамам. Блондин уже ушел. Сеньора Ламбрускини была очень ласкова. Гауна подумал: «Турчаночка хорошеет с каждым днем, но страшно подумать, что она невеста Феррари». Разговоры и кофе помогли скоротать ночь. В углу несколько мужчин играли в карты, но остальные посматривали на них с неодобрением.
XXXV
Судьба – полезное изобретение людей. Что произошло бы, если бы некоторые события были иными? Случилось то, что должно было случиться; этот скромный вывод вытекает ненавязчиво, но абсолютно ясно из истории, которую я рассказываю. И все же я продолжаю думать, что участь Гауны и Клары была бы другой, если бы Колдун был жив. Гауна снова стал захаживать в кафе «Платенсе», стал встречаться с приятелями и доктором Валергой. Неизбежные сплетники повторяли, что Гауна позаботился о том, чтобы его короткие отлучки из дому не огорчали жену; что в таких случаях его заменял Ларсен; что стоило одному выйти из дверей, как другой уже входил…
Правда, заключенная в этом, была совершенно безобидной: чувства Ларсена к Гауне и Кларе оставались прежними, и раз теперь он не мог ходить к Колдуну, он приходил в дом Гауны.
Лишенный опеки Табоады, Гауна без конца говорил о тех трех таинственных днях. Клара так любила его, что, дабы не быть в стороне от чего-то, его касавшегося, или просто чтобы ему подражать, тоже обсуждала происшедшее, оставаясь наедине с турчаночкой; наверное она предчувствовала, что навязчивая идея Гауна таила глубины, куда в конце концов канет ее счастье, но в ней было это благородное смирение, эта прекрасная отвага иных женщин, которые умеют быть счастливыми в минуты, когда их несчастья дают им передышку. Однако, по правде говоря, даже эти передышки омрачала тень, тень несбывавшегося желания – иметь ребенка (кроме Гауны, об этом знала лишь турчаночка).
А Гауна говорил – с каждым разом все яснее – о карнавальных воспоминаниях, о тайне третьей ночи, о своих неясных планах ее раскрыть; верно, что присутствие Ларсена немного сдерживало его, но он уже упоминал при Кларе о маске из Арменонвиля. Если он зарабатывал несколько песо в мастерской, то вместо того, чтобы откладывать их на «форд», или на швейную машинку, или на выплаты по закладной, тратил их в барах и других заведениях, куда они заходили в те три ночи двадцать седьмого года. Как-то он сам признался, что эти походы напрасны: те же места, увиденные по отдельности, без пелены усталости, хмельного тумана и безумного помрачения тех ней, не вызывали у него никаких воспоминаний. Ларсен, чья осмотрительность часто казалась трусостью, немало тревожился по поводу этих экскурсий Гауны и не слишком скрывал от молодой женщины свое беспокойство. Однажды Клара сказала ему завуалировано раздраженным тоном, что она уверена: Гауна никогда не бросит ее ради другой женщины. Клара была права, хотя одна блондинка с чуть овечьим лицом, работавшая за стойкой в низкопробном заведении под названием «Синьор», завлекала его почти с неделю. Во всяком случае, слухи об этом дошли до их квартала. Гауна мало что про это говорил.
Когда Гауна получил наследство Табоады – около восьми тысяч песо, – Ларсен боялся, что его друг растратит их в беспорядочных походах за три-четыре вечера. Клара не усомнилась в Гауне. Он выплатил по закладным и принес домой швейную машинку, радиоприемник и несколько оставшихся песо.
– Я принес тебе это радио, – сказал он Кларе, – чтобы ты не скучала, сидя одна.
– Ты думаешь оставить меня одну? – спросила Клара.
Гауна ответил, что не мыслит жизни без нее.
– Почему ты не купил автомобиль? – спросила Клара. – Мы ведь так хотели.
– Мы купим его в сентябре, – заверил он, – когда пройдут холода, и мы сможем гулять.
День был дождливый. Прижавшись лбом к оконному стеклу, Клара сказала:
– Как хорошо быть вместе и слушать дождь за окном.
Она приготовила ему мате. Они заговорили о третьей ночи карнавала двадцать седьмого года. Гауна сказал:
– Я сидел за столом с девушкой в маске.
– А что было потом?
– Потом мы пошли танцевать. Тут ударили в тарелку, танец прервался, все взялись за руки и побежали цепью по салону. Потом снова раздался звон тарелки, и мы опять образовали пары, только с другими. Так я потерял девушку в маске. Как только смог, я вернулся к столу. Доктор и ребята ждали меня, чтобы я расплатился. Доктор предложил выйти прогуляться к озерам, чтобы немного проветриться и не закончить карнавал в полиции.
– И что ты сделал?
– Пошел с ними.
Казалось, Клара усомнилась.
– Ты уверен? – спросила она.
– Конечно же уверен.
– Ты уверен, – настаивала она, – что не вернулся к столу, где сидела маска?
– Уверен, дорогая, – ответил Гауна, поцеловав ее в лоб. – Однажды ты сказала мне то, чего никто бы не сказал. Тогда мне было очень больно, но я всегда был благодарен тебе за это. Теперь моя очередь был откровенным. Я был в отчаянии оттого, что потерял девушку в маске. Внезапно я увидел ее у стойки бара. Я уже поднялся, чтобы подойти к ней, как вдруг понял, что она улыбается