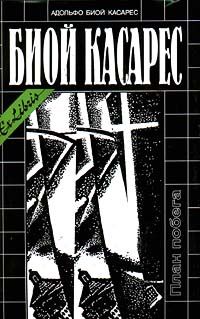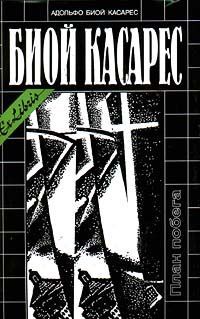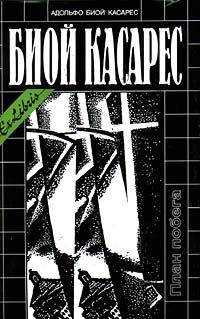очевидно, почти жестоко. Для Гауны этот факт имел лишь единственное возможное истолкование: он должен истратить эти деньги, как в двадцать седьмом году; должен промотать их с доктором и ребятами; должен обойти те же места и на третью ночь прийти в Арменонвиль, а потом, на рассвете – в парк; так ему будет дано вновь проникнуть в видения, которые предстали перед ним, а потом рассеялись в ту ночь, и окончательно достичь того, что, словно в экстазе забытого сна, было кульминацией его жизни.
Он не мог сказать Кларе: «Я выиграл эти деньги на скачках и потрачу их с ребятами и доктором в три карнавальные ночи». Не мог объявить, что глупейшим образом выбросит на ветер деньги, которые так нужны в доме, и, что еще хуже, проведет три ночи, мотаясь по барам и по женщинам. Пожалуй, он смог бы так поступить, но не сказать. Он уже привык скрывать от жены кое-какие мысли; но провести с ней вечер и не заикнуться о том, что на следующий отправится пьянствовать с друзьями, казалось ему умолчанием предательским и, кроме того, неосуществимым.
Клара встретила его нежно. Доверчивая радость ее любви отражалась во всем ее существе – в блеске глаз, в округлости скул, в волосах, беспечно откинутых назад. Гауна ощутил некую спазму жалости и печали. Обращаться так с человеком, который настолько его любит, подумал он, просто чудовищно. Да и, в сущности, зачем? Разве они не счастливы? Разве ему нужна другая жена? Словно решение зависело не от него самого, словно все определял кто-то третий, он спросил себя, что произойдет на следующий день. Потом решил, что никуда не пойдет, что не бросит (этот глагол заставил его мысленно содрогнуться) Клару.
Было поздно, когда они погасили свет. Кажется, они даже танцевали в тот вечер. Но Гауна не сказал, что выиграл деньги на скачках.
XXXVIII
Воскресенье выдалось хмурое и дождливое. Ламбрускини пригласил их поехать в Санта-Каталину.
– Сегодня день не для прогулок, – заметила Клара. – Лучше останемся дома. Потом, если решим, сходим в кинематограф.
– Как хочешь, – ответил Гауна.
Они поблагодарили Ламбрускини за приглашение и пообещали поехать с ними в следующее воскресенье.
Утро они провели, почти ничего не делая. Гауна читал «Историю жирондинцев»; между страницами он нашел полоску бумаги со словами «Фрейре 3721» – Клара написала их губной помадой в тот день, когда они гуляли вместе в первый раз. Потом Клара пошла готовить, они пообедали и легли отдохнуть. Когда они поднялись, Клара заявила:
– Честно говоря, у меня нет желания выходить из дому.
Гауна стал копаться в радиоприемнике. Накануне вечером он заметил, что, поработав какое-то время, тот нагревается. Часов в шесть он сказал:
– Я тебе его починил.
Взял шляпу, сдвинул ее почти на затылок и объявил:
– Пойду пройдусь.
– Ты надолго? – спросила Клара.
Гауна поцеловал ее в лоб.
– Не думаю, – ответил он.
Он подумал, что не знает. Какое-то время назад, когда он спрашивал себя, что будет делать вечером, его сердце сжимала тоска. Теперь нет. Теперь, втайне довольный, он любовался своей нерешительностью – быть может, подлинной, своей свободой – быть может, мнимой.
«Надо бы еще дождя», – подумал он, переходя площадь Хуана Баутисты Альберди. Деревья словно тонули в туманном ореоле. Было очень жарко.
Ребята скучали в «Платенсе», за мраморным столиком. Положив руки на спинки стульев Ларсена и Майданы, слегка наклонившись, бледный, сосредоточенный, Гауна сказал:
– Я выиграл больше тысячи песо на скачках.
Он посмотрел на приятелей. Позже, задним числом (но не тогда, тогда он был слишком возбужден), он припомнит, каким озабоченным стало лицо Ларсена.
– Приглашаю вас всех на сегодняшний вечер.
Ларсен отрицательно тряс головой. Гауна сделал вид, что не замечает этого. Он торопливо продолжал:
– Давайте погуляем, как в двадцать седьмом году. Пошли за доктором.
Антунес и Майдана поднялись.
– Вас блохи, что ли, кусают? – спросил Пегораро, откидываясь на спинку стула. – Сразу видна ваша неотесанность. Неужто мы уйдем отсюда, не отпраздновав, пусть даже пивом, удачу Эмилито? Садитесь, сделайте одолжение. Времени предостаточно, не спешите.
– Сколько ты выиграл? – спросил Антунес.
– Больше тысячи пятисот песо, – ответил Гауна.
– Если вы спросите его еще через полчаса, – заметил Майдана, – окажется, что куда больше двух тысяч.
– Официант! – подозвал Пегораро. – Этот сеньор угощает нас всех темной каньей.
Официант вопросительно посмотрел на Гауну. Тот кивнул.
– Несите, несите, – сказал он. – Я плачу.
Выпив, все поднялись, кроме Ларсена. Гауна спросил:
– Ты не идешь?
– Нет, брат. Я остаюсь.
– Что с тобой? – спросил Майдана.
– Я не могу, – ответил Ларсен, многозначительно улыбаясь.
– Пусть она подождет, – посоветовал Пегораро. – Им это на пользу.
– А он уж и поверил, – заметил Антунес.
– Если это не так, с чего мне отказываться? – возразил Ларсен. Гауна сказал другу:
– Но надеюсь, что ночью ты присоединишься к нам.
– Нет, старик, я не могу, – заверил его Ларсен.
Гауна пожал плечами и двинулся к выходу вслед за приятелями. Потом вернулся к столу и тихо попросил:
– Если можешь, зайди к нам и скажи Кларе, что я пошел с ребятами.
– Ты сам должен был это сказать, – ответил Ларсен. Гауна догнал остальных.
– С кем встречается Ларсен? – спросил Майдана.
– Не знаю, – сухо ответил Гауна.
– Ни с кем, – убежденно заявил Антунес. – Разве вы не понимаете, что это просто предлог?
– Просто предлог, – печально повторил Пегораро. – Этому мальчику не хватает человеческой теплоты, он эгоист, себялюбец.
Антунес пропел слащавым голосом, который уже стал раздражать его друзей:
Против судьбы никому не дано устоять.
XXXIX
– Сколько ты выиграл? – спросил доктор. Его тонкие губы слегка улыбались. – Я всегда говорю, что это самый благородный вид спорта.
На нём был синий холщовый пиджак, темные домашние брюки и альпаргаты. Он встретил их холодно, но весть о победе Гауны значительно смягчила его.
– Тысячу семьсот сорок песо, – с гордостью заявил Гауна.
Антунес, подмигнув одним глазом и подобрав левую ногу, весело заметил:
– Это то, что он признает. Хотите, я просвечу его корму.
– Не выражайся, как бандит, – укорил его доктор. – Я буду утюжить тебя всякий раз, как услышу, что ты разговариваешь, словно бандит или жулик. Приличие, молодые люди, приличие. Шалопут Альмейра, человек, замешанный во всех скандалах и сумасбродствах, устраивавшихся в его время, не говоря уж о том, что он приобрел немалую известность в те годы, когда среди золотой молодежи считалось хорошим тоном устраивать охоту на полицейских, так вот, он сказал мне – и я никогда этого не забуду, – что пристойность в одежде приносила ему больше пользы, чем карты. – Потом заметил другим, уже сердечным тоном: – Что же вы не проходите?
Все прошли на кухню и, усевшись на самодельных скамьях и на плетеных стульях (иные из которых были совсем низкими), окружили доктора. Валерга торжественно приготовил мате, отпил его и передал другим.
Наконец Гауна осмелился и заговорил:
– Мы собираемся поразвлечься на карнавале и очень хотели бы, чтобы вы поддержали нашу компанию.
– Я уже говорил тебе, сынок, – ответил Валерга, – что я не банк, чтобы поддерживать компании. Но я с удовольствием принимаю приглашение.
– Когда доктор узнает,