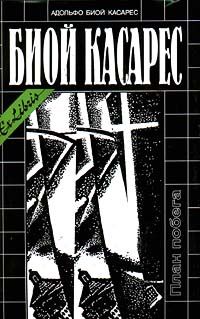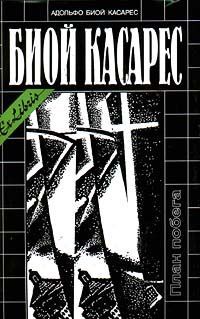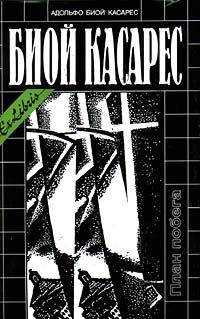молодому человеку – головастому, со светлыми волосами. Быть может, потому, что я так обрадовался, увидев ее, я сразу же разозлился. А может, то была ревность, кто ее знает. Я ничего не понимаю. Я люблю тебя, и мне кажется невероятным, что я ревновал кого-то еще.
– Я принял предложение прогуляться к озерам, поднялся, оставил на столе деньги и ушел с Валергой и ребятами. Потом завязался какой-то спор. Это мне словно приснилось. Антунес или кто-то другой заявил, что я выиграл на скачках больше, чем сказал. Здесь все становится смутным и обрывочным, как во сне. Наверное я совершил непростительную ошибку. Насколько я помню, доктор встал на сторону Антунеса, и в результате я вижу, как мы деремся с ним на ножах при свете луны.
XXXVI
Утром в субботу 1 марта 1930 года Гауну «обслуживали» в парикмахерской на улице Конде.
– Так значит, Праканико, – обратился он к парикмахеру, – у тебя нет никакой надежной лошадки на сегодняшние забеги?
– Не говорите мне про скачки, – ответил Праканико, – мне вовсе не хочется умереть в приюте. Игры хороши для сумасшедших. Что рулетка, которая вечно обчищает меня в Мар-дель-Плата, что еженедельная лотерея, съедающая мои сбережения, на которые я мечтаю поехать летом в Мар-дель-Плата.
– Какой ты парикмахер? – спросил Гауна. – В мое время парикмахеры всегда сообщали клиентам, на какую лошадь ставить. И к тому же рассказывали подходящую к случаю забавную историю.
– За этим дело не станет. Моя жизнь почище любого романа, – заверил его Праканико. – Могу рассказать, как плавал на военном судне и так трусил, что даже укачаться было некогда. Или как раз, воспользовавшись тем, что муж уехал в Росарио, я пригласил жену зеленщика.
Гауна принялся напевать:
Ах, страшно вспомнитьмне в песне этой,каким я грустнымсидел в кафе,когда гуляламоя красоткатам по Росарио – де-Санта-Фе.
– Я не расслышал, – сказал Праканико.
– Ничего, ничего, – ответил Гауна. – Просто я припомнил одну песню. Продолжай.
– Так вот, я воспользовался случаем и пригласил пройтись жену зеленщика. Я был тогда молодой и ужасно привлекательный.
Поглядев вбок и вверх, он добавил с искренним восхищением:
– Я был высокий.
(Однако он не пояснил, как ему удалось быть значительно выше, чем сейчас.)
– Мы пошли на танцы в шикарное место – «Театро Архентино». В танго мне не было равных, и когда мы начали первый танец, один бандюга хрипло так говорит: «Парень, вторая половина – для дона Я из Кордобы». Этот невежда очевидно вообразил, что в танце, который мы танцевали, была первая и вторая половина. Я тут же ответил, что он может забирать мою партнершу прямо хоть сейчас, я устал от танцев. И вылетел из театра пулей – не дай бог, громиле что-нибудь не понравится. На другой день женщина зашла ко мне в парикмахерскую, которую я держал тогда на улице Успальята, номер 900, и категорически запретила мне так недостойно вести себя на танцах. Мы снова провели сиесту вместе, в обнимку, и слово за слово, опять немного побранились. И что вы скажете? Вдруг я вижу, что она встает на весь рост, открывает ящик и достает нож «золинген», – она-то хотела отрезать хлеба, чтобы помазать его джемом, но я меньше всего мог подумать о хлебе и джеме. Я вскочил с постели, упал на колени, как святой, и со слезами на глазах просил ее меня не убивать.
Гауна посмотрел на него с удивлением. Праканико пылко и с гордостью объяснил:
– Трудные положения – не для меня. Клянусь вам чем угодно: я низкий трус. Когда я начал приударять за Доритой, она совсем еще недавно разошлась с мужем. Однажды вечером я шел к ней, и вдруг в темном месте мне навстречу выходит муж и говорит: «Я хочу с вами поговорить». «Со мной?» – спрашиваю я. «Да, с вами», – отвечает он. «Быть не может, – сразу же говорю я. – Вы наверное ошиблись». «Какие тут ошибки, – заверяет он. – Доставайте оружие, потому что я вооружен». Я задрожал как листок и стал клясться, что он жестоко ошибается; объяснил, что по соседству нет оружейной лавки, а если бы и была, то так поздно она все равно была бы закрыта, и попросил его: пусть делает со мной что хочет, только даст сперва позвонить по телефону моим девочкам и проститься с ними. Тот понял, что я жалкий трус, просто дальше некуда. У него прошел весь гнев, и он сказал, вполне здраво, чтобы я шел к Дорите, а потом мы поговорим в кафе. Я хотел было ответить, что знать не знаю никакой Дориты, но у меня язык не повернулся, как вы понимаете. Дорита спросила меня в тот вечер, что это со мной. Я сказал, что ровным счетом ничего, все превосходно. И только подумайте, какие они, эти женщины: Дорита стала меня уверять, будто у меня испуганный вид. Когда я вышел, муж ждал меня на улице, и мы пошли в кафе, раз ему так уж этого хотелось. Я со всей искренностью предложил ему свою дружбу, но он строил из себя неприступного. А потом стал объяснять, что работает в военных мастерских и что ему как нельзя кстати было бы сейчас повышение. И вот я поклялся ему не сходя с места, что я это ему устрою, и на другой же день принялся тормошить всех знакомых. Я такой дотошный, что к концу недели повышение этому прохиндею было подписано. Поверите ли, мы стали большими друзьями и виделись каждый вечер. Бывало, все втроем ходили в театр, с Доритой, безо всякого там, честь по чести. И вот так, встречаясь каждый день, мы прожили пять лет, пока этот проходимец наконец не умер от фурункула, и я смог вздохнуть.
Завязывая галстук, Гауна спросил еще раз:
– Так значит, у тебя нет никакой надежной лошадки на сегодняшние забеги?
Сеньор с зонтом, одетый в черное, с лицом зловещей птицы, который уже давно чинно ожидал своей очереди, вдруг заволновался и заговорил:
– Скажи ему, что есть, Праканико, скажи ему, что есть. Я знаю лошадь, которая не подведет.
С большим неудовольствием Праканико взял у Гауны деньги. Гауна нашел в жилетном кармашке старый трамвайный билет, достал карандаш и посмотрел на сеньора в черном. Тот, сильно шевеля губами, глухим, с присвистом голосом произнес имя, которое Гауна записал печатными буквами: «Кальседония».