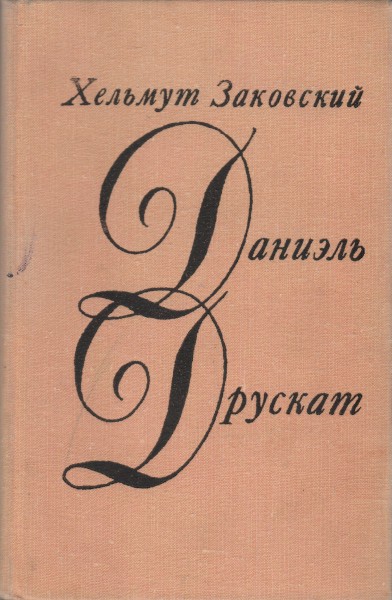одиннадцать, и нет никого, кому я смог бы ее доверить, может статься, мне придется уехать на долгие годы». Собираясь перейти рельсы, он не заметил, как один из трамваев, скрежеща на повороте, двинулся прямо на него. Розмари с криком рванула его назад:
«Даниэль!»
Он остановился, полуобернулся, нахмурился и пристально посмотрел на нее:
«Ты о чем-то спросила?»
Она сокрушенно покачала головой, шагнула к нему — преодолела тот единственный разделявший их шаг, — ни слова ни говоря, взяла его лицо в ладони и коснулась сжатыми губами его губ. Только теперь он вынул руки из карманов, они робко скользнули вверх по ее бедрам, рукам и наконец схватили девушку за плечи. Она обняла его, прижалась лицом к щеке, и они долго стояли так. Наконец Розмари прошептала:
«Скоро утро, Даниэль».
Они быстро вернулись в гостиницу, благо было недалеко, попросили у администратора ключи. Гостевые талоны? Да-да, пожалуйста! Она рылась в сумочке, он шарил по карманам пиджака. Наконец талоны найдены. Пытливый взгляд ночной дежурной: не первой молодости, — наконец движение руки к доске с ключами и очень-очень мимоходом многозначительное:
«Третий этаж! Пятый этаж! Доброе утро!»
Двери лифта открылись на третьем этаже, но Друскат и не думал выходить, он смотрел на Розмари, улыбка не получалась.
«Я провожу тебя до двери», — хрипло сказал он. Под сорок человеку, а разволновался, как двадцатилетний юнец. Скоро они очутились перед ее номером. Розмари прислонилась спиной к двери, скрестив на груди руки, на губах ее играла легкая насмешливая улыбка. Что дальше?
Друскат — он был выше ростом — уперся ладонями в косяки и поймал Розмари в капкан из своих рук, потом нагнулся, потерся щекой о ее щеку, а она вдруг снова хихикнула в ладошку, как девчонка.
«Что тут смешного?» — обиделся он.
«Не знаю, — сказала она, — кто это выдумал, что небритая щека возбуждает чувственность. Наверняка мужчина».
«Что я должен сделать?» — спросил он.
«Отпереть дверь», — сказала она, протягивая ему ключи.
Снова все у нас было украдкой, но как никогда чудесно, потому что я, дорогая, умею любить. Я люблю редко, и моя нежность не растрачена. Тебе понравилось, не то бы ты утром выставила меня из постели куда раньше; было около восьми или даже больше. Остальные мои коллеги уже ждали при полном параде возле лифта, когда я, небритый и бледный после бессонной ночи, присоединился к ним. Все ухмылялись и, наверно, думали о выпивке, а я улыбался, думая о любви. Спустившись двумя этажами ниже, я разыскал свой номер, снова сорвал с себя одежду и весело швырнул на нетронутую постель. Редко я стоял под душем — то холодным, то горячим — с таким наслаждением, я стонал от восторга, дрожал, как на морозе, пел и намыливался; бреясь, тщеславно вертел головой, подмигивал своему отражению и даже поднялся на цыпочки, чтобы рассмотреть себя в зеркале. Я стоял обнаженный, такой, каким меня видела ты, и решил, что выгляжу вовсе не плохо, еще почти молодо, но я же и на самом деле молод — сорока нет.
Затем завтрак с Розмари.
«Ты расстроена, милая?..»
«Просто немножко устала».
«Я думаю».
Я был голоден как волк, ел с удовольствием, жевал, улыбаясь, поглядывая на любимую и был абсолютно счастлив — такая редкость в моей жизни.
Мы успели на один из последних автобусов, что направлялись на территорию ярмарки. Даже выкроили минутку, чтобы подымить: курили у входа, поболтали кое с кем о пустяках: что поделываешь? как дела? И те, кто знал меня поближе, смотрели удивленно, как на чужого, — в то утро я мог радоваться, шутить и смеяться, хлопать мужчин по плечу, говорить женщинам приятные вещи. Я был влюблен.
Потом я опять сидел на своем месте среди тысяч других, видел далеко впереди Розмари; она склонилась щекой на руку, как всегда, когда внимательно слушала, наконец повернула голову, посмотрела на меня и улыбнулась. Не помню, кто в эту минуту стоял на трибуне, о чем он говорил. «Розмари, ты не спросила об этом, когда мы были вместе, — думал я. — Но теперь я понял, как мне тебя не хватало, понял после одной-единственной ночи любви».
Сегодня я чувствую в себе силу и уверенность. Мы сидим среди множества других, в одном зале с представителями правительства. Я сижу здесь, и, по-моему, это справедливо: ведь я мужчина, который тебе нравится, мужчина, который кое-что может, руководитель. Кстати, с дипломом, на заочном корпел, похвастаться даже не удалось, времени было маловато, ночь так коротка. Ты не спросила, никто и никогда больше не спросит меня о той давней истории, боже мой, ведь она случилась с совсем другим человеком в совсем другой жизни.
Перед расставанием мы долго держались за руки — разлука не навечно, но прощание всегда горько. Мы снова любили друг друга, но знали, что видеться будем редко.
Иногда я писал ей, примерно так:
«Любимая!
В кооперативе, как обычно, полно работы. Готовы планы мелиорации Волчьей топи, но власти сомневаются. Будем строить опытный польдер своими силами, на собственный страх и риск. За мной крестьяне. Аня на той неделе едет с классом на экскурсию в Росток. Значит, в субботу, такого-то числа, я мог бы приехать на день в Берлин. Придумай что-нибудь, выпроводи свою милую соседку.
Радуется, считает дни, любит тебя
твой Даниэль».
Порой писала она, что-нибудь в таком роде:
«Дорогой мой Даниэль!
Диссертация у нас наконец готова, слава богу, осенью защита. Надеюсь, ты сможешь освободиться на денек, чтобы поддержать меня в тяжелую годину. А теперь мне надо хоть на один день удрать отсюда. Соскучилась по тебе. Ужасно хочется снова погладить твой непокорный чуб. Как насчет субботы, такого-то числа? Напиши, не откладывая, можешь ли ты найти для нас пристанище, и если да, то где.
Нежно, нежно целую
твоя Розмари.
P. S. Забыла самое важное: представляешь, мне удалось устроиться поближе к тебе — заключила трудовое соглашение с Бебеловом. Меньше тридцати километров от тебя! Просто не верится...»
3. Боже мой, о чем я только ни думал в эти часы — о себе, о виновности и невиновности, о стольких людях, годах и днях, о нынешнем и минувшем, о своей горькой, сладкой, любимой жизни.
Я думал о Розмари, входя в здание суда, и сейчас снова не могу не думать о ней, о нашей