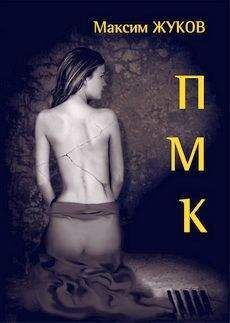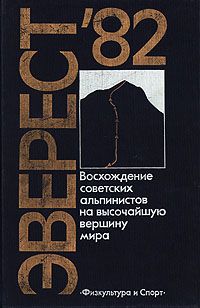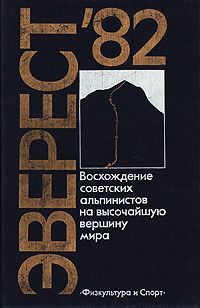околохудожественной московской публике.
Я тогда мучительно переживал вторую,
самую большую,
влюбленность в моей жизни.
Разрыв уже состоялся.
Она,
сжалившись надо мной
и поддавшись на мои
многочисленные
уговоры,
решила сходить со мной в последний раз на эту выставку…
В последний раз.
На эту выставку…
Со мной.
Я почти не замечал картин,
не видел столпившихся там и тут
посетителей;
я держал ее за руку
(Это мне -
напоследок! -
было дозволено),
и несказанно радовался этому обстоятельству,
как ребенок.
Я! -
циничный хуеплёт,
переимевший полсотни баб
самого разного пошиба!
Зрелище оцинкованного таза
с плавающими в нем морковкой,
ведром и метлой зацепилось за край моего сознания и
как бы
застыло там
ничего не значащим пятном,
не вызывая во мне никаких видимых рефлексий.
До того момента,
пока не раздался ее смех;
явственный, довольно громкий
(для выставочного зала),
несколько грубоватый
смех:
— Знаешь, как эта фигня называется?
— Нет…
— Прочитай, там на боку написано.
На медной,
чересчур солидной
для такой инсталляции
табличке
было размашисто начертано:
«ПАМЯТИ СНЕГОВИКА»
Больше этим вечером она так не смеялась.
На этой выставке.
Со мной…
В последний раз.
А вот имя и фамилию автора
я позабыл,
не запомнилось как-то…
Извиняйте, люди добрые.
…Проходил сегодня мимо школы
через толпу «кавказцев»
(студенты — учатся рядом
в Налоговой Академии).
За оградой
бегают русские детишки.
У одной девчушки
В прозрачном модном рюкзачке
Живописно разложены
разноцветные
Ручки, маркеры, карандаши…
— Дэвочка, дай фломастэр.
Остановилась. Посмотрела:
— А писю покажешь?
(не боится — ограда высокая!)
Смеются.
Девочка лет
семи-восьми по виду.
не стал останавливаться,
пошел дальше.
Интересно,
чем это у них кончилось.
Возвращался я как-то домой.
Поздно вечером. Устал очень.
Зима. Автобус насквозь промерзший.
Зашли двое парней. Пьяные.
Одеты прилично. Явно иностранцы.
В те годы их по одежде легко можно было отличить.
Вслед за ними
на остановке вошел
какой-то негр.
Там общежитие у них располагалось
На «Банановом Проспекте» — по народному
определению;
по карте:
улица «Миклухо-Маклая»,
Университет имени Патриса Лумумбы.
Шутка еще такая была:
— Ты куда?
— Да к черным, в патрисвоилумумбы,
жвачку выпрашивать…
Так вот:
Парни эти — белые,
Пьяные,
на негра посмотрели как-то странно,
бутылку достали плоскую из внутреннего кармана
с горячительным,
по глотку сделали, и один другого
сразу придерживать начал:
говорит, что-то — не пойму на каком языке -
быстро-быстро,
и к поручням его прижимает…
Негр отошел от них подальше
И затаился…
Вдруг, выбиваясь из потока сплошной тарабарщины,
пьяный парень отчетливо произнес:
«РАСИЗМ — ВЫСШАЯ ФОРМА ГУМАНИЗМА!»
И успокоился.
Еще глоток сделал
и сник.
…Мы с негром на одной остановке вышли.
Откуда они были, эти ребята?
Чехи?
Румыны?
Поляки?
Точно из соцлагеря.
Американцы или, скажем, французы
в те времена
по ночам
на общественном транспорте не ездили
без сопровождения…
А немцы
в конце семидесятых
до такой степени
не обнаглели еще…
Странно это было
тогда слышать.
А вы говорите:
«евреи,
Гитлер,
6 000 000
невинных жертв!»
Какой хуй!
Право слово…
Мне одна знакомая рассказывала:
— Красивый такой господин, седоватый,
с усами;
я смотрю на него, и понять не могу, -
где я его до этого видела?
А он мне:
— Может, в «Арагви» сходим?
Было бы недурно…
Голос бархатный,
речь такая правильная, ровная,
вальяжный такой…
Я ему наплела что-то,
мол, жених и все такое…
— Смотрю через неделю телевизор,-
про культуру что-то, -
смотрю — Он, среди приглашенных -
в обсуждении участвует;
в титрах потом: Андрей Битов.
Представляешь?
— Ну и что, не жалеешь?
— О чем?
— Ну, за одного Битова — двух НЕ битовых дают;
романчик бы закрутила -
то да сё…
— Да ты что! Это все равно, что с Толстым
перепихнуться…
Бррр — гадость какая.
Никто не называл его Зямой. По крайне мере при мне.
Только Зиновий Ефимович.
Он пришел не один. С женщиной.
(Как позже выяснилось, -
со своей женой).
Я дежурил в тот вечер по зрительному залу
перед спектаклем (все студийцы
были обязаны этим заниматься по очереди, в строго установленном порядке).
Он хромал. Сильно. Последствие фронтового ранения. Эта хромота
серьезно повлияла на его профессиональную карьеру. Отсюда и
театр кукол, и несоразмерная его таланту небольшая занятость в кино;
хотя сыграл он много: хорошие, яркие роли.
(Один Паниковский чего стоит!).
Я встретил его у входа в зал, проводил до первого ряда и усадил в специально приготовленное для него кресло; его жена села рядом.
Обаятельный невысокий еврей
с мягкими манерами интеллигента,
приветливой улыбкой
и грустными глазами.
Спектакль удался на славу.
Артисты старались. Все знали, что в зале Гердт, — играли в полную силу, не халтурили.
В конце представления зрители вызвали на сцену режиссера; актеры выходили
на поклоны семь или восемь раз… Триумф полный.
Гердт,
по-молодецки поднявшись из своего кресла,
аплодировал стоя:
благородный жест и великая честь.
Прощаясь, он сделал пару комплиментов режиссеру и выразил пожелание
заглянуть в наш театрик еще раз.
Впечатление от встречи с ним осталось самое теплое, сердечное.
Не знаю почему, может быть в силу странности юношеского характера, может быть
просто из желания выпендриться и пошутить, но, делая запись о его посещении в журнал
«отзывов и предложений» (святая обязанность дежурного по залу), я настрочил:
На спектакле был З.Е.Гердт.
Когда аплодировал -
встал, как Хуй.
И все. Коротко и ясно; и совершенно
для меня теперешнего, -
повзрослевшего и уравновешенного, -
необъяснимо…
Два дня спустя в театре проходил сбор труппы. Присутствовали занятые и незанятые
в спектаклях артисты, кое-кто из администрации, технический персонал.
После довольно долгого обсуждения художественных и организационных проблем режиссер, увидев меня сидящим в седьмом ряду возле осветительской будки, саркастически произнес:
И о работе дежурных…Совсем недавно в театре побывал прекрасный артист и замечательный человек Зиновий Ефимович Гердт. Спектакль, насколько я знаю, ему понравился… Встретили его хорошо, вежливо, посадили куда положено. Молодцы.
Однако после его ухода в журнале «отзывов» была сделана запись, содержание которой,
несмотря на оскорбительный характер и нецензурную брань, я осмелюсь публично огласить…
И он процитировал мою краткую, но весьма красноречивую писанину.
Смеялись все: артисты и не артисты, осветители и рабочие сцены, буфетчицы и уборщицы, больше всех, кстати, ржала заведующая литературной частью,
которой и принадлежала сама идея ведения этого журнала.
Этот позор останется несмываемым пятном на моей совести
на всю жизнь,
до скончания века;
его я унесу с собой в могилу вместе с кошмарными снами, в которых
я выхожу на сцену и
напрочь забываю
досконально выученный накануне
текст.
Говорили, что при Зиновии Ефимовиче нельзя было ругаться матом. Вообще.
Нельзя было допускать грубых и резких выражений. По крайней мере, такая информация
размещена на одном из посвященных его творчеству порталов в Интернете. (Маловероятно. Это в актерской-то среде!) Единственное, что по прошествии стольких