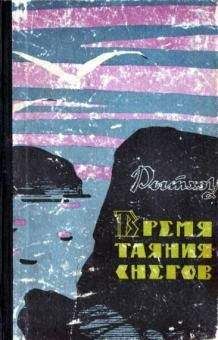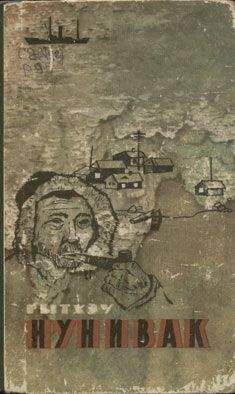Маша называла его «льдышкой» за то, что он, по ее мнению, был чересчур сдержан во внешних проявлениях чувств. Это верно. Как ни старался Ринтын, у него ничего не выходило. Иной раз, глядя на Машу, он замирал от любви и восторга, но словами или каким-то жестом не мог это выразить и оттого часто мучился и казался еще более отчужденным и холодным.
Ринтын сел за стол. Зря он скрыл, зачем поехал в город. Маша сидела бы дома и ждала… Теперь ему придется ждать ее.
Часа три Ринтын сидел над бумагой и пытался писать. Потом бросил и пошел на вокзал.
Дождь стучал по листве и смачно бил каплями в разбитую колею дороги.
Пассажиры прятались от дождя в здании вокзала. К каждому поезду Ринтын выскакивал из душного зала ожидания и, всматриваясь в лица, пропускал мимо себя выходящих пассажиров.
Промчался поезд дальнего следования с нарядными, ярко освещенными вагонами. А Маши все не было. Ринтын стал беспокоиться.
Когда нетерпение Ринтына достигло предела и были пережиты в воображении все возможные несчастные случаи, Ч из второго вагона, осторожно щупая ногами железные ступеньки, сошла Маша. Она огляделась, как будто знала, что Ринтын ее встречает, и улыбнулась, заметив его. В руках у нее была сетка, набитая продуктами.
— Держи, — сказала она и тяжело вздохнула.
Они пошли по мокрой, раскисшей дороге. Ноги разъезжались в глине. Ринтын бережно поддерживал жену и повторял:
— Осторожнее, Маша.
Дождь щелкал по рваной клеенке на столах возле пивной будки.
— Давно приехал?
— Три часа назад.
— Где был?
— К Саше Гольцеву заходил. Занял у него деньги. А ты?
— На барахолку ездила.
— Куда?
— На барахолку, — повторила Маша.
— Что ты говоришь? — ужаснулся Ринтын. — У нас со всего факультета только Алачев отваживался туда ходить. Там, говорят, одни жулики торгуют.
— Кроме жуликов, много и таких, как я, которых нужда погнала, — сказала Маша. — Много женщин, да и мужики есть.
— А что ты продала? — поинтересовался Ринтын.
— Кофточку.
— Она ведь у тебя единственная! В чем ты будешь зимой ходить?.. Надо было со мной посоветоваться.
— Ты же не сказал, куда едешь, — с оттенком упрека сказала Маша.
Ринтын переложил в другую руку тяжелую сетку и признался:
— Я больше не мог смотреть, как ты мало ешь. Ну ладно, я один. Могу и потерпеть. А вас уже двое, значит вдвойне нужна еда.
— Я не работаю, — возразила Маша, — а ты целыми днями сидишь и пишешь. Я-то знаю, что это только с виду легкая работа, а на самом деле сколько сил уходит… Все думала, как бы раздобыть денег. Сходить к подругам? Но мне-то известно, как они живут. Тянут от получки до получки, едва сводят концы с концами. Совестно у них просить. Вот и решила поехать на барахолку. Я там уже один раз была. Ты на меня не сердись…
— Что же мне сердиться? — пожал плечами Ринтын. — Только зря ты думаешь, что я такой нежный, не могу потерпеть. Когда я жил в Улаке, мы частенько голодали. Ели один раз в день, и это считалось вполне достаточно зимой, когда зверя в море нет. Питались одним юнэвом. Такие листья квашеные в бочках. Конечно, грибы куда лучше. А работали на морозе. Есть у нас такой обычай: с семи лет мальчишке уже не разрешается входить в полог до темноты, если нет сильной пурги. Целый день на морозе… А тут сидишь в теплой комнате… Пишешь, не рубишь лед на замерзших водопадах. Тебе надо много есть. Я вспомнил одну историю, которая приключилась в нашем селении. Не хотел тебе говорить…
И Ринтын поведал жене о том, как в семье Ивтэка родился уродец.
— Но я, честное слово, не голодаю! — горячо возразила Маша. — Напрасно ты так беспокоишься.
Они поставили на стол все, что купили.
Маша уселась против Ринтына. Лицо у нее разрумянилось, непослушные волосы падали на лоб, и она часто встряхивала головой, откидывая их назад.
Ринтын любил разглядывать ее лицо. Каждый раз он делал для себя маленькие приятные открытия. Маша сначала терпеливо сидела и ела, аккуратно отставив в сторону мизинец, потом заерзала и недовольно сказала:
— Ну что ты на меня так уставился? Будто впервые видишь.
— Ты каждый день новая, — ответил Ринтын. — Я хочу тебя поцеловать.
— Что с тобой, льдыш?
— Влюбился в тебя еще раз, — вздохнул Ринтын.
— Ты какой-то странный, — задумчиво произнесла Маша. — Иногда я смотрю на тебя, сидящего за столом, и мне тоже кажется, что там совсем другой человек. И выражение лица другое, и весь ты иной. Кажется, ушел весь в бумагу, растворился в ней, а вместо тебя сидит чужой и гоняет тебя по белому полю…
— Я и сам порой чувствую какую-то раздвоенность. Будто очень долго смотрю в зеркало. Попробуй сама — даже страшно становится! — ответил Ринтын.
Маша убирала посуду, Ринтын помогал ей и думал о том, как сложилась бы его жизнь, если бы на пути ему не встретилась Маша. Неужели была бы другая женщина? Это невозможно! Конечно, есть мужчины, которым мало одной женщины. Но жена должна быть только одна и на всю жизнь, вот такая, разумеется, как Маша.
— Маша! Праздновать так праздновать! — вдруг решил Ринтын. — Пусть сегодняшний день будет нашим праздником. Не буду больше сегодня писать.
Перебивая друг друга, они стали мечтать, как поселятся в далеком маленьком селении на берегу Ледовитого океана, где синие льдины смотрят в окно; растили в мечтах сына и прикидывали, что купить на первый гонорар.
— Проигрыватель, — сказал Ринтын. — Больше мне ничего не надо. Мне кажется, что если буду много слушать музыку, то писать стану лучше. Законы построения художественного произведения и музыкального очень близки… Мне бы хотелось научиться так писать, чтобы между мной и читателем не было ничего, что помешало бы нашему общению. Чтобы на бумаге стояли самые нужные слова, чтобы их было ровно столько, сколько необходимо, ни одним больше, чтобы читатель не думал о том, кто и как написал это произведение, а только читал, впитывал в себя… Когда человека мучит жажда, ему неважно, из какого сосуда пить, была бы вода чиста, холодна… Жажду можно утолить по-настоящему не лимонадом, не газированной водой с сиропом, никакими соками, а только чистой ключевой водой. И конечно, совсем уж неважно, из чего пить. Поэтому когда в литературу начинают лить сироп, разные искусственные краски, изобретать замысловатые сосуды — это иногда даже забавно, но лежит где-то в стороне от настоящей жизни. Ты слушаешь меня, Маша?
— Слушаю, льдышка, — ответила Маша. — Только хочу спросить вот о чем; ты написал рассказ "Новый дом", а сам мне рассказывал, что такое случилось только в одной яранге вашего селения. Значит, еще не все чукчи так поступают?
— Да, конечно, — ответил Ринтын. — Но мне кажется — это и есть главное. Живописной гадости в нашей чукотской жизни и поныне столько, что лопатой ее можно кидать на страницы, не то что пером. Человек идет вперед, потому что надеется на лучшее, тянется к свету. На пути к свету дороги не гладкие. Задумаешься иной раз: сколько крови, страданий, катастроф пережили люди — а идут, идут вперед! Поэтому, Маша, я постараюсь писать только о том, что помогает человеку жить лучше, радостнее, чтобы люди читали и говорили: а я тоже могу так, а я ведь тоже такой…
По железной крыше по-прежнему стучал дождь: настойчивый, долгий и нудный. Комната погрузилась в темноту. Ринтын подошел и повернул выключатель. Вспыхнул свет, и шум дождя за окном стал тише.
В главном здании университета недалеко от входа на стене висело несколько ящиков, разделенных на ячейки. Чуть ли не каждый день Ринтын приезжал в город с единственной целью взглянуть в ячейку на букву «Р» и еще раз убедиться, что журнал еще не прислал гонорар. Деньги занятые у Саши Гольцева и вырученные Машей за кофту, подходили к концу. Впереди снова маячила перспектива сесть на грибную диету и вдохновляться примером воздержанного в еде долгожителя Бернарда Шоу.
Но сегодня в ящике лежало письмо на имя Ринтына. От кого бы оно? Ринтын взял в руки конверт. На нем стоял штамп Кытрынского почтового отделения, и Ринтын вдруг воочию увидел, как аккуратный и важный Ранау — бессменный начальник почтового отделения — ставил его. Письмо было толстое, в самодельном конверте, плотном, склеенном из контурной географической карты.