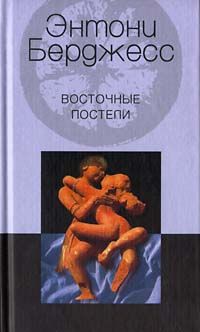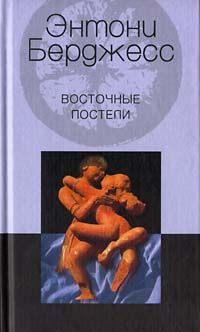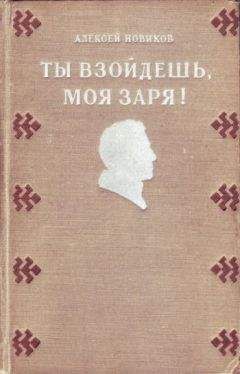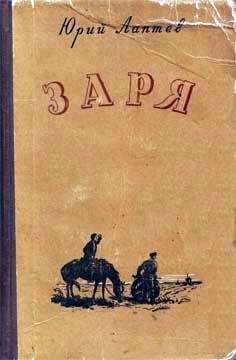— Он не женится, — сказал он. — У него жена в Пинанге. Один я женюсь.
— Я за вас никогда не пойду, никогда, никогда. Скорей выйду за Вая. Вы просто ужасный. — Джалиль, слыша подобный отзыв, заерзал от удовольствия.
— За европейца хотите, — сказал он. — Я и есть европеец. У меня всего три жены. Можно еще одну. Если вы за меня не пойдете, легко найду другую. Много малайских женщин мужа хотят. Мне все равно.
— Ох, Джалиль, вам никогда не понять. Никогда. Что я буду делать на Рождество? Не хочу Хари-Райя. Не хочу Дипавали. Не хочу ни мусульманских, ни индийских праздников. Мне нужно Рождество. Мне нужна индейка, рождественский пудинг, пирожки с мясом, омела, снег, колядки. Мне нужна елка. Мне нужны подарки!
На последнем слове она не выдержала, и лицо ее стало нечеловеческим. Надо же, плакать в тот день, который должен был стать вторым счастливейшим в ее жизни. Розмари обливалась слезами, забыв, что пришло время ленча. Джалиль тихо фыркал.
Вайтилингам спокойно и эффективно работал долгим жарким днем. Сделал шести собакам прививки от бешенства, диагностировал у кошки энтерит, осмотрел овец на экспериментальной овечьей ферме, подтвердил, что ручная обезьянка страдает пневмонией, съездил в фургоне ветеринарного департамента в кампонг лечить вола от нового неизвестного, бешено распространявшегося рака кожи, вернулся в хирургию, где написал письмо Розмари Майкл.
Дефект речи не позволял ему сделать достойное устное предложение. На бумаге можно выражаться свободно, даже красноречиво; высокопарные фразы письма доставляли ему удовольствие. «…Если вы согласитесь стать моей женой, обещаю честно выполнять все супружеские обязанности. Хотя я не богат, имею адекватный доход и обязуюсь приложить усилия к обеспечению привычного для вас образа жизни». Прозу его мертвой хваткой держал стиль индийской бюрократии XVIII века, ни в коем случае не смягченный чтением в переводе Маркса и Чжоу Эньлая. «Остаюсь вашим искренним обожателем. А. Вайтилингам». Он запечатал письмо, чтоб потом отнести ей домой, стоять и моргать, пока она будет читать.
Необходимо скорее жениться. Утром пришло письмо с Цейлона от матери с очередной фотографией подходящей девушки из тамилов Джафны. Вайтилингам с ненавистью усмехнулся. Как хорошо ему понятны смертельные муки того самого буржуазного персонажа того самого буржуазного драматурга, гордости той самой презренной страны. «О, женщины, вам имя — вероломство». Он довольно недавно видел тамильскую киноверсию «Гамлета», слишком длинную, почти на два часа, но довольно живую и свежую в своем роде, невзирая на восемь песен Офелии и на танцы могильщиков. Сцена в спальне с криком, с бурными крепкими тамильскими поношениями, испуганная черная королева в постели, — вот это искусство, вот это слова. Но оставался вопрос об условном рефлексе. Если мать приедет в Малайю на праздники, как пару раз грозилась, если привезет с собой какую-то девушку вроде такого зубастого черного пудинга на фотографии, нелегко будет держаться позиции непримиримости. Ему слишком хорошо известно, что будет. Он и глазом моргнуть не успеет, как его усадят позировать для свадебного снимка, в лучшем костюме, со свадебной гирляндой на шее, связанного на всю жизнь с избранницей матери. Мать решительно не должна победить. Свобода воли, конечно, иллюзия, по каждому надо хотя бы прикинуться, будто он ее проявляет.
Когда пришло время идти, Вайтилингам сложил в черный саквояж лекарства для кошек. Призадумался, не пора ли подарить Розмари какое-то другое животное. Овцу? Слишком крупная. Обезьяну? Все кругом перебьет. Говорящего попугая? Заразит пситтакозом, попугайной болезнью. Какаду? Он подошел к своей машине и обнаружил, что в ней уже сидят двое мужчин. Арумугам и Сундралингам. Они жизнерадостно его приветствовали.
— Эй, привет! Долго ты!
— Привет! — провизжал Арумугам, как ведьма.
— Мы гостей собираем, — сказал Сундралингам. — У меня дома. Маньяму гораздо лучше.
— Я должен… — начал Вайтилингам. — Мне надо…
— Моя машина в гараже, — пояснил Сундралингам, — в починке. Отвези нас домой.
— Но я сначала должен… — Вайтилингам нервно дернул подбородком на свой черный саквояж. — Должен…
— Нет, — твердо сказал Сундралингам. — Знаем мы эти игры, ха-ха. С нами поедешь. Мы о тебе позаботимся.
— Мы за тобой присмотрим, — пропел Арумугам каноном на две октавы выше. А потом, как бы в шекспировском настроении, подобно самому Вайтилингаму, спел:
Там, где пчелка пьет, там и я…
— Но… — попытался Вайтилингам.
— Садись, — сказал Сундралингам, твердо, но дружелюбно.
Музыкальный бог громко пел заведенью и улице. Дети с благоговейным страхом глядели в его гипнотический глаз, и множество любителей пива, — гораздо больше, чем когда-либо раньше, — сидели, зачарованные, окутанные теплым пальто тропической ночи и великой грохочущей музыкой. Старик Лоо стоял у холодильника с довольным видом.
— Посмотрите-ка на него, — сказал Идрис, деликатно потея в костюме. — В ушах вата.
— На кого? — спросил Азман, в тот день в тропической одежде.
— На него. На вундеркинда.
Все четверо загоготали. Роберт Лоо в самом деле сидел, как бы стараясь соткать вокруг себя тишину; два ватных тампона глушили неэффективно; шум, из льва съежившись в муравьев при столкновении с мягкой преградой, все-таки проникал — не прыжками с выпущенными когтями, а ползучей украдкой. Сводившее с ума виденье скрипачки, почему-то переодевшейся из синего в зеленое, сводило с ума пуще прежнего: она вечно тут будет стоять со смычком наготове, лаская щекой полированную деревянную деку, ждать, улыбаться, ждать. Роберт Лоо открыл ватные двери, и влился бушующий золотой океан. Не стоит сопротивляться.
— Вон папаша твой, — сказал Азман Хасану. Вошел Сеид Омар, веселый, в газетной рубашке, черных штанах, сандалиях. И приветствовал сына такими словами:
— Вот где ты попусту время тратишь.
Сеид Хасан ухмыльнулся, смущенный громким голосом и одеждой отца, и пробормотал:
— Чего тут плохого.
Сеид Омар громко заказал бренди и имбирный эль.
— Нельзя, — отказал Лоо Кам Фат. — Ты малаец. Полиция сказала, нельзя.
— Я сам полиция, — объявил Сеид Омар. — Меня можешь обслужить. Должен обслужить. Я и есть полиция.
Сеид Омар сел с четырьмя мальчишками, попивая бренди с имбирным элем.
— Это что за наряд? — усмехнулся он на костюм Идриса. — Кем ты себя воображаешь?
— Никем, — сказал Идрис.
— Вот именно, никем. Все вы просто ничтожества. Хотите походить на гангстеров. И ты тоже, — обратился он к сыну. — Я тебя в городе видел в таком же наряде. Что творится с нынешней малайской молодежью? — сказал он. — Где старые добрые мусульманские принципы, которым старшие вас стараются научить?
— Мы хоть бренди не пьем, — храбро вставил Азман.
— Даже если попробуешь, не получится, — презрительно оборвал его Сеид Омар. — Все назад выльешь. — И скорчил гримасу, точно его тошнило, продемонстрировав белый язык. — Вы не мужчины, в отличие от ваших отцов, и никогда такими не будете. Одна кока-кола да джаз. Где принципы, за которые боролись ваши отцы?
Никто не пожелал спрашивать, где боролись и с кем. Мальчики молчали.
— Что будет с исламом, — продолжал Сеид Омар, — когда вам, молокососам, придется его защищать? Скажите-ка мне. — Никто не смог ответить. Музыка вдруг взорвалась, как кипящий котел, и Сеид Омар подпрыгнул на стуле. — Во имя бога, — крикнул он по-английски, — выключите этот шум. — Никто не шевельнулся. Неожиданно начался тихий пассаж. — Так-то лучше, — сказал он, будто сам бог поспешил ему повиноваться. — Слабаки, — резюмировал он, обращаясь к мальчишкам. — Все это кино американское. Жизнь расслабленная, мысли расслабленные. Посмотри на свой мускул, — сказал он сыну. — Рукава закатал, будто есть что показывать. — Ощупал тугой комок на плече Хасана и заключил: — Слабый мальчик. Совсем слабый.
Мальчики с добродушным презрением смотрели на него, на круглое брюшко, на общую дряблость.
— Могу выйти с вами на ринг, — предложил Хамза. — Пять раундов выдержу. Наверняка нокаутирую.
— Правильно, — рассмеялся Сеид Омар. — Навались на меня. Кругом враги ислама, враги малайцев, а ты меня хочешь нокаутировать. Меня, ровесника твоего отца, представителя твоей собственной расы. Сидите тут, пьете жуткое сладкое пойло, когда кругом враги. — Драматически прищуренными глазами он оглядел безобидных любителей сладких напитков. — И вам всем четырем может прийти в голову мысль ударить несчастного старика, чьи дни почти сочтены, посвятившего лучшие годы жизни обеспечению безопасности вот таких вот молокососов. — И заказал еще бренди, добавив: — Запиши на мой счет.
Только что кончился первый сеанс рядом в кинотеатре. Вошел Краббе с Розмари. Чтобы загладить грубость вчерашнего вечера, полный отказ от добровольно предложенных чувственных сокровищ, ему пришлось повести ее посмотреть впервые за многие месяцы показанный в городе фильм на английском языке. Плохой фильм глубоко тронул Розмари, героиня-блондинка внушила новые фантазии. Усевшись теперь за столик, она говорила сквозь музыку: