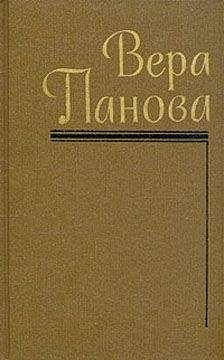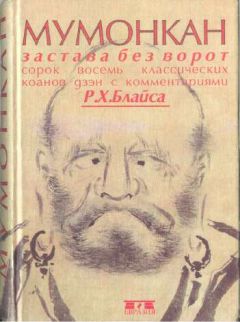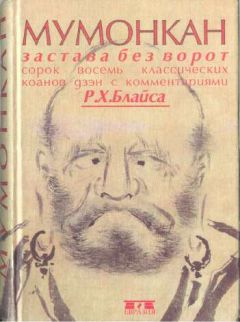Рассказывал Неумержицкому — свой сон.
— Это что! — отмахивался тот. — Мне вот недавно приснилось, что меня на балконе автобусом задавило…
Не понимал серьезности сна, не придавал ему никакого значения.
Тем днем — вновь не посещали института: посещали спортивный зал.
Вечером Благодатский встречался со своим другом — писателем-домоседом по фамилии Постный. Приезжал на встречу с ним туда, где жил он: в Сокольники. Высокий и тонкий, похожий на циркуль, с хвостом длинных светлых волос и добрыми умными глазами — ждал его Постный и читал в ожидании книгу. Здоровались, радовались друг другу и отправлялись гулять — в парк.
— Полезем — в дырку! — предлагал Благодатский.
— Зачем? — не понимал Постный. — Вход платный только в выходные днем, а сейчас — не платный.
— А так, просто. Чтобы менты нас металлоискателями не щупали!
— Менты… — отправлялись к знакомому месту в кованом чугунном заборе, где давно уже был выломан кем-то толстый заборный прут.
Благодатский покупал себе — пиво, а товарищу, по причине худобы пребывавшему на вечной диете, не пившему и не курившему, — кекс.
Дорогой обменивались последними новостями, пили и ели. В который раз поражался Благодатский домашнему образу жизни Постного, его странным вкусам и привычкам.
— Пошли со мной на кладбище, Постный! — звал его.
— Зачем? — удивлялся.
— С готами познакомлю. Погуляем, пообщаемся.
— Ага, нужны мне твои готы. Они — уроды все. Не хочу. А кладбищ боюсь, я там бываю два раза в год, так потом — сам моюсь целиком и всю одежду в стирку кладу. Заражусь еще чем вдруг…
— Да чем там заразишься, глупости… А если уж готы уроды — то кто же тогда не урод? Не гопники, по крайней мере…
— Да те же гопники, только одеваются по-другому и готику слушают. А сами — читать не умеют.
— Некоторые умеют. А ты — слишком критичен, на все со своей колокольни смотришь. Если бы все такими как ты сделались, стало бы очень скучно. Представь: все сидят дома, читают и пишут…
— Ну и хорошо: может, хоть написал бы тогда кто-нибудь что-нибудь нормальное. Чего дома, плохо что ли? Чего на кладбищах этих делать? Ерунду говоришь, Благодатский. Ой, смотри! — показывал на мусорную урну, мимо которой проходили. Там, рядом с ней, в просыпанном мусоре, сидела крыса. Толстая, с наглой мордой и умными маленькими глазами, рылась она в отбросах: искала съедобное.
Подходили поближе, смотрели крысу. Лишь раз зыркнув в их сторону — не прекращала своего занятия: продолжала шевелить лапами и разрывать мусор.
— Не боишься, Постный? Вдруг она — тебя укусит…
— Ничего она не укусит, она есть хочет, — с интересом разглядывал животное Постный.
— Что ж ты её, кормить собираешься, что ли?
— А я больше — не хочу! — демонстрировал остаток кекса, подходил совсем близко к урне и отщипывал маленький кусочек: бросал крысе. Та — опять взглядывала на Постного: словно пыталась понять, чего нужно ожидать от него. Так смотрели друг на друга — умными глазами, изучали. Видела: опасности нет, подходила к кусочку кекса: нюхала и съедала его. Постный крошил еще: так постепенно скармливал крысе остаток кекса — полностью. Благодатский все это время — сидел в стороне: на бордюре, курил и пил пиво. С интересом наблюдал за действиями приятеля. После, когда нечего уже было предложить голодному животному, говорил:
— Пойдем. Я бы тоже мог ей пива плеснуть, так ведь — не будет…
— Умная, — отвечал довольный Постный и подходил к Благодатскому: шли дальше, к дыре в заборе: проникали на территорию парка и принимались бродить там по дорожкам, стараясь выбирать места — где поменьше людей.
— Я вот, Постный, вчера — хотел рассказ написать, — признавался другу.
— Про что?
— Не знаю про что, просто рассказ. Только я даже начать не смог… Как начать, может ты посоветуешь? Давно ведь — сочиняешь…
— Не знаю, чего там начинать — бери да пиши. Придумай чего-нибудь и пиши…
— А может, лучше — не придумывать? Чего неправду-то писать, хуйню всякую…
— Благодатский, это же литература! Настоящее искусство, чистое искусство, всё придумано. А те, которые так просто пишут, не придумывают — уроды…
— Ого… Я как-то не очень с тобой согласен, ну да ладно. Думаю — все как раз наоборот. Ты сам-то что-нибудь сейчас пишешь?
— Пишу. Роман пишу.
— Роман? Круто… Трудно ведь, наверное, роман писать…
— Ничего не трудно. Я подумал просто: вот сексуальность и религиозность — два начала цивилизации. Ну и решил написать про то, как они связаны.
— Интересно. И чего там у тебя будет? — завидовал другу Благодатский.
— Чего там будет, все там будет. Во всех видах. Написал уже, как чувак себя на антенне распял. Еще там садо-мазохисты будут и гомосексуалисты тоже. Много чего будет.
— А евреев — не будет?
— Чего ты к евреям привязался? Нет, не будет. А про гомосексуалистов — будет начинаться фразой: «Я занимался любовью с Христом»…
— Чего-то ты совсем уже, Постный… Досиделся, дочитался…
— Ничего ты не понимаешь, это — рефлексия! Я вот церковников не люблю, они — уроды все. Вот и напишу, никому мало не покажется…
— Слушай, может все-таки — с готами потусуемся? Хоть на живых людей посмотришь, а то скоро совсем у тебя от книжек этих крыша съедет… — серьезно говорил другу Благодатский.
Но тот отказывался и продолжал так же категорично отстаивать свои позиции. Так гуляли они и беседовали, пока не надоедало: тогда — выбирались из парка и отправлялись по домам. Дорогой Благодатский рассуждал: «Он — умный и напишет здорово… Только он ведь ни одного священника в жизни небось не видел. Да и извращения — если только на видеозаписях. А это что? Да ничего, так — чужие фантазии… Я вот чего не видел и не пережил — никогда писать не стану, это пошло, это — наебаловка. Посмотрим, чего он там напишет…» Продолжал завидовать.
А ночью, перед сном — снова накатывало: поднимался под одеялом член и шевелилась память: показывала то, что казалось уже давно забытым. Ворочался, не мог уснуть. Чувствовал внутри — тяжесть, дышал глубоко и часто. Наконец вставал: тихо, чтобы не разбудить моментально уснувшего Неумержицкого. Одевал джинсы и шел в туалет: дорогой закуривал и выкуривал сигарету.
В туалете — запирался в кабинке, расстегивал джинсы и доставал казавшийся чуть припухшим член, трогал и смотрел на него: моментально вставал. Благодатский вздыхал, думал свои невеселые мысли и принимался мастурбировать: привычно скользил рукой по поверхности члена, стягивая и натягивая кожу. Представлял себе: комнаты, постели и кресла, представлял — мощно движущиеся и стонущие тела, залитые потом и спермой, а также — себя и её среди них. Стены туалетной кабинки мутнели и расплывались, вздрагивал потолок — опускался вниз и резко подымался обратно вверх. Исчезала и вновь появлялась обложенная коричневой плиткой унитазная дыра. Уставала рука, делался влажным лоб и спина, вдруг ослабевал и чуть обвисал член: Благодатскому казалось, что если он сейчас не кончит, то — расплачется и упадет здесь, в узкой кабинке на грязную, со следами мочи и плевков плитку. Из последних сил напрягал уставший бицепс и яростно дергал член. Наконец кончал: лишь несколько жалких мутно-белых сгустков вылетало и падало в дыру унитаза, тихо всхлипнув там желтоватой водой. Подбирал кусок какой-то смятой бумаги, протирал член. Сливал воду и отправлялся спать. Засыпал моментально, усталый и подавленный. Перед тем, как заснуть — успевал подумать: «Что-то делать нужно, иначе — совсем хуево станет… Схожу опять — к ней, только какой смысл… Нет, лучше на кладбище: подцеплю там кого-нибудь, может Евочка… Евочка, телефон ведь ее — есть! Позвоню завтра…»
Звонил.
— Встретиться? Можно… — соглашалась и назначала время и место: вечером, на станции метро «Октябрьская».
Приезжал, выходил на улицу. Одетый в черное: джинсы и тонкий свитер с торчавшим из-под — аккуратным воротом рубашки, рядом с которым свисали убранные за уши длинные волосы, прислонялся к стене: закуривал, совал руки в карманы и ждал. Решал — не пить. Рассуждал, о том — для чего встречаться здесь и предполагал: для того, чтобы быть возле высокого памятника Ленину, рядом с которым вечерами часто помногу собираются неформалы: в том числе — и готы. Не радовался: представлял себе толпу молодежи со спиртными напитками и обязательных в таких условиях — ментов и гопников. «Нужно было — на кладбище встретиться. Ну или хотя бы: в центре… Только бы — не вспоминала подробности той ночи и не спрашивала — почему уехал: не прощавшись…» — думал Благодатский и поглядывал на время: опаздывала. Наконец приезжала, извинялась. Говорила:
— Там такие пробки, а мне ехать — далеко…
— Ладно, ничего, — целовал Благодатский и заново разглядывал: словно успел за несколько дней совершенно позабыть — как она выглядит. Маленькая, с носом-крючочком и в черной шерстяной шали с крупными дырами-ячейками, Евочка казалась — усталой, смотрела из-под полуприкрытых глаз и объясняла: для чего встретились здесь: