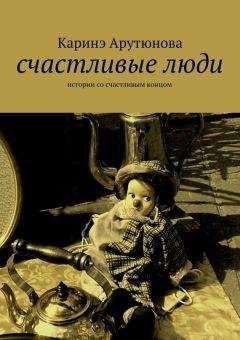Ознакомительная версия.
Полное счастье представлялось мне дюжиной курчавых мальчишек, совсем как в мультике «Лев Бонифаций», который тоже, представьте, просмотрен был бессчетное количество раз, но от этого абсолютно не утрачивал своего очарования и какой-то угловатой смешной и трогательной наивности.
Cчастье было неразбавленным, ярким, цельным. Мультфильм был только раз в сутки, вечером, перед сном, и это в лучшем, учтите, случае…
А в худшем, приходилось терпеть всяких тетенек-чревовещательниц, разговаривающих поросячьими и заячьими голосами, а еще бессменного деда Панаса из какой-то придуманной жизни, в которой не говорят, а «балакают», что лично мне казалось страшно смешным, и каким-то несерьезным, что ли, потому что «балакали» в основном няньки в детском саду, бабули на лавочках, а среди знакомых мне взрослых (то есть, знакомых моих родителей) не балакал никто.
Итак, был мульфильм, причем любой, я рада была любому! А еще, конечно, Майя Плисецкая, любоваться которой я могла сутки напролет.
Любоваться и замирать, а потом часами носиться по нашей комнатушке, заваленной книгами, – воздевать руки, воображать себя белым или черным лебедем…
Да, чаще, все-таки, черным.
Черный – это характер, экспрессия, темперамент, мощь, это туго сплетенные мышцы, пропускающие заряд такой неимоверной силы, – сострадая белому, я втайне симпатизировала тому, другому…
Итак, черный ребенок, черный лебедь, а еще моя тайная любовь …Максимка. Спасенный матросом мальчишка с огромными бархатными глазищами и ручками-палочками. Абсолютно черный, – во всяком случае, в нашем черно-белом телевизоре он иным и быть не мог. Не лиловым, не шоколадным, не кофейным.
У нее черный ребенок! Вы только посмотрите…
Итак, все было предопределено.
В мечтах своих я шла по городу, – высокая, с платиновой прической и лебединой шеей, а на руках моих покоилось крохотное и беззащитное…
Мой Максимка. Только мой и ничей больше. Один на руках, и еще двое рядом. Двое, трое, пятеро…
А, главное, чтобы все были против. Весь мир.
Ах, как смаковала я эту отдельность, эту избранность, эту непохожесть.
Мне нравилось быть другой.
Кто, как не я, сочинял безумные истории о моей родословной, которая на фоне кинематографических страстей казалась какой-то пресной, что ли… Какие-то армяне, какие-то евреи. А апачи, а цыгане, а викинги?
Какие легенды слагала я о самой себе.
И беззаботно пускала их вплавь, – точно маленькие бумажные кораблики, они уплывали, горделиво покачиваясь на волнах.
В лучшем случае, я была чернокожей девочкой (а лучше мальчиком), украденной моими родителями из самого что ни на есть цыганского табора.
Во дворе меня окружали соседские дети. Самым удивительным было то, что мне верили!
Верили. Пропуская мимо ушей повторы, неточности, они шли вслед за мной, заглатывали мои бесконечные «рассказки» и требовали еще.
И я не могла их разочаровать.
Как не могла подвести десяток темнокожих мальчишек, цепляющихся за подол моего платья.
Сверкая белками глаз, они шли за мной и требовали продолжения. И я не могла остановиться. Чтобы не предать, понимаете?
Тот самый мир, маленький, смешной, огромный, из тех странных времен, из того самого черно-белого кадра, в котором невообразимой красоты женщина идет сквозь толпу, а на руках ее – невообразимой красоты черный ребенок.
Больше всего на свете я люблю «никуда не спешить» и «не торопясь гулять».
Я не люблю ранний подъем, спешку, суету.
Не люблю давиться завтраком, который, хоть убей, а надо съесть, потому что следующий раз еще неизвестно когда будет.
Давиться, глотать, поглядывая на часы…
Да, часы – это зло. Не зря говорят о тех, кто их не наблюдает.
Вот я и люблю гулять, не наблюдая часов.
Как мастерски, как легко лишали нас радости!
Гуляешь… ну-ну… а уроки сделаны?
Вот это самое «ну-ну», возможно, придавало краденой прогулке оттенок запретной сладости, но, определенно, лишало безразмерности счастья.
Потому что счастье не имеет границ, конца и начала, оно всегда.
Правда, нас научили в это не верить. Знаем, мол, чем все заканчивается. Чем больше смеха, тем обильнее слезы.
Радость надо заслужить. Вымолить. Отработать.
Радость недолговечна, преступна и наказуема.
***
В шестом классе мне, наконец, подарили часы. Самые настоящие часы на скромном черном ремешке, с настоящими живыми стрелками.
Как долго я мечтала о них!
Как вскидывала руку и подносила запястье к уху, прислушиваясь к воображаемым звукам.
Казалось, обладатель наручных часов отделен от прошлой жизни бесповоротно.
Надо сказать, что с определением времени, как и с ориентацией в незнакомой местности, у меня наблюдались некие затруднения.
Никогда не забуду шумную стайку одноклассниц на пороге моего дома.
Они торопились в кино, а часов ни у кого не было.
– Который час? Ну, есть же у вас будильник или настенные часы?
Я ринулась в спальню и, пытаясь оттянуть момент расплаты, несколько минут простояла в полумраке, сжимая в ладони подрагивающий будильник.
Я вертела его так и этак, жала на кнопочки, но стрелки загадочно тикали, не торопясь раскрыть свою тайну.
Я действительно не понимала.
И отчаянно завидовала тем, кто легко и непринужденно, вскидывая руку, ронял, – без четверти два!
Ах, что такое эта самая четверть? Попробуй пойми, что четверть и пятнадцать – это одно и то же…
И вот, новенький ремешок ладно сжимает запястье, а стрелки сладко тикают, и теперь – хохо! – теперь-то я точно знаю, сколько времени понадобится, чтобы успеть на урок сольфеджио, – проглотить бутерброд, слететь по лестнице, добежать до трамвая, перейти дорогу в сквер…
На трамвай – четверть. На сквер, в котором толпятся местные забулдыги – еще четверть. Три квартала, если считать по улицам. Целых три. Итого – полчаса.
Полчаса вечной, неделимой свободы.
Мое личное время, не отягощенное всеми этими «должен», «надо», «успеть».
Бутерброд бултыхается в животе, нотная папка бьет по ногам, а забулдыгам, похоже, до меня никакого дела нет, хотя, проходя мимо, я по привычке задерживаю дыхание и стараюсь казаться незаметной, почти невидимкой.
И только стрелки на часах заглушают звон отъезжающего трамвая, шорох листьев, прихрамывающие звуки гаммы из окна.
Я расстегиваю ремешок и заботливо перекладываю сокровище в кармашек куртки.
Но и это, пожалуй, не спасает меня.
Что-то тикает и грохочет, – назойливо, неутомимо, толкает в спину, – я ускоряю шаг, бегу, бегу.
Эти двое дяденек мне сразу понравились. Во-первых, тем, что они были дяденьки, а не тетеньки.
Тетенек в школе было завались. А вот дяденек – кроме завхоза и учителя пения (о нем отдельная история) – никого.
А тут – сразу двое, – высоких, по-своему даже элегантных, в плащах. С такими внимательными, очень внимательными глазами. Глаза-жучки – так я их назвала про себя.
Но это «про себя», а снаружи я вся лучилась и сверкала.
Еще бы, дяденьки ухватились за меня как за последнюю надежду.
Сейчас, вот сейчас эти «проверяющие» дяденьки поймут, что лучше меня…
В общем, забор я рисовала все сорок пять минут и еще десять минут перемены.
Все это время они (особенно один из них) входили, выходили, заглядывали, улыбались, качали головами.
Ну, уж я-то старалась!
Надо ли объяснять, что цвет для забора я выбирала достаточно долго, и остановилась на ядовито-лимонном – и красила его, – каждую штакетину, обведенную карандашом, закрашивала изнутри весьма старательно, – мне очень хотелось нарисовать лучший забор в мире!
Правда, уже в процессе закрашивания мне стало как-то… скучновато, что ли, и я пририсовала к забору слегка перекошенное здание с зарешеченными окошками, а у здания – множество синих человечков в колпачках – ну, как бы гномиков.
А еще…
Высунув от усердия кончик языка, я бойко прокрашивала колпачки, курточки, ботиночки, зонтики.
– Это что? – с любопытством склонил голову один из умных дяденек, – как что? – это дети, а это – школа, – радостно ответила я.
Ознакомительная версия.