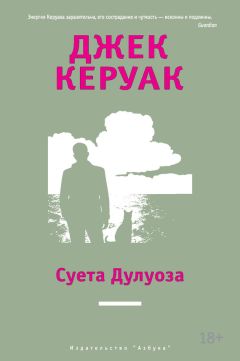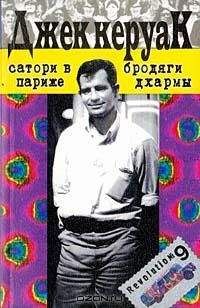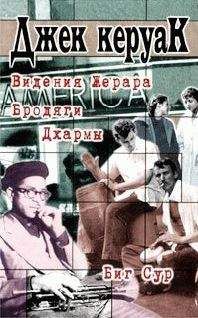Само собой, когда Франц отошел и не мог уже нас услышать, Клод мне говорит: «Но весь смысл ухода в море как раз в том, чтоб избавиться от него. Вот теперь-то мне что делать?»
Той ночью все мы оказываемся, с девчонками и Уиллом тоже, на Минетта-лейн, где старый Джо Гулд, уперев бородатый подбородок в трость, смотрит на Сесили и говорит: «Я лесбиянин, я люблю женщин». Поэтому все мы отправляемся на безобидную вечеринку на Макдугал-стрит, как-то избежав Франца, поскольку он сворачивает за угол что-то искать, мы сидим на этой типичной ночной вечеринке по-нью-йоркски, треплемся и слышим, как внизу стонет и трещит козырек бара, а потом видим, как кто-то по нему взбирается, влезает в окно, бум, это Франц Мюллер.
Фактически, по мере того как все становилось хуже и Франц все больше отчаивался, однажды ночью (если верить тому, что он рассказал Уиллу) он влез по пожарной лестнице на задах «Долтон-Холла» и поднялся к окну Клода на третьем этаже, а окно было открыто настежь, он залез внутрь и увидел, что Клод спит во тьме луны в окне. Он там простоял, говорил он, где-то с полчаса, просто глядя на него молча, почтительно, едва дыша. Затем вылез. Когда перепрыгивал через забор, его поймал сторож пансиона и втащил в парадный вестибюль под дулом пистолета, и его там отчитал ночной портье, вызвали легавых, ему пришлось размахивать бумагами и объясняться, им пришлось позвонить Клоду и разбудить его, и тот спустился и подтвердил, что пил с Мюллером у него в номере всю ночь. «Божже мой, – хохотал Хаббард, не разжимая губ, – а предположим, ты комнату перепутал и нависал над совсем посторонним человеком».
В приступе злого вдохновения я пошел прямо к столу большой шишки в союзе и сказал, что ужасно долго уже жду себе судна: «И что? Поглядим-ка на твои другие списания». Вдруг он заулюлюкал, увидев старое списание с «Дорчестера»: «„Дорчестер“? Ты был на „Дорчестере“? Господи ты бож мой, чего же сразу не сказал, у любого бывшего члена экипажа с этого „Дорчестера“ тут особые льготы, скажу я тебе, брат! Вот! Вот твои карточки. Ступай отдай их Чернышу, судно получишь через день-два. Добрые времена, брат». Я изумился. У нас с Клодом появилась возможность порадоваться. Мы решили съездить в Лонг-Айленд повидать мою родню.
В баре через дорогу мой отец, в белой августовской рубашке пивного вечера, на Клода посмотрел поперек и сказал: «Ну ладно, угощу сынка богатея выпивкой». По лицу Клода пробежала тень. Потом он мне сказал, что ему это так и не понравилось. «Если для Дулуозов типично не это, мне нипочем не узнать что. Зачем ему понадобилось как раз в тот миг об этом заговаривать? Вы мужланы из краев романтического трепа».
«Не нравится мне этот Клод, – грит мне Па наедине той же ночью, – похож на проказливого юного паразита. Он тебя до добра не доведет. Как и этот мелкий Джонни Подли твой, и этот Хаббард, о котором ты мне все уши прожужжал. Чего ты с такой никчемной шушерой связался? Что, нельзя уже хороших молодых дружков найти?» Представь, мне такое говорят посреди моего периода «Поэта-Символиста», когда мы с Клодом наперебой орем темным подмостным водам: «Plonger au fond du gouffre, ciel ou enfer, qu’importe? [на дно твое нырнуть – Ад или Рай – едино![50] ]» и всякие прочие поговорки Рембо, и ницшеанские, а тут нам гарантируют, что мы выйдем в море во мгновение ока и станем символистскими Изидорами Дюкассами, и Аполлинерами, и Бодлерами, и «Лотреамонами» вообще в самом Париже.
Годы спустя я встретил пехотинца, который как раз в то время был на втором фронте, и он сказал: «Когда я услышал, что ты и этот парень Мобри собрались прыгнуть с судна во Франции и пойти в Париж пешком, чтобы стать там поэтами, за линией фронта, притворяясь крестьянами, мне захотелось вас найти и стукнуть головами друг с другом». Но он забывает, что мы намеревались на самом деле это совершить и почти что совершили, а это случилось еще и до прорыва Сен-Ло.
Вызов и пришел однажды под вечер. Я написал работу Клоду (который был умнее меня, но ленивее), он ее сдал, надеясь получить какое-нибудь попустительство от преподов Коламбии, и мы с ним отправились в профсоюз и цапнули свои назначения. Распределяли на «„Либерти“ курсом на второй фронт». Мы рванули на Хобокен посредством подземки, пешком через весь город к Северной реке – и на паром. Но когда добрались до причала, нам сказали, что стоянку переместили на пирс в Бруклине к подножию Джоралемон-стрит (опять!). Поэтому нам пришлось пилить обратно всю дорогу, через реку на пароме, уже в тяжелом дыму, потому что со стороны Джёрзи у порта полыхал пожар (дым, как я чувствовал, удивительно густой, неприметный, он давал понять – что-то пойдет не так), потом в Бруклин и на судно. Вот оно.
Но пока мы шли по долгому пирсу с нашими пропусками и бумагами, все заверено, манатки наши на спине, и пели «Хай-хи-хо, Дейви Джоунз» и «Чё ж нам делать с пьяным матросом рано по утрянке?», и прочие матросские песни, в другую сторону шагала компания парней с нашего судна, и они сказали: «Вы, ребята, на п/х „Роберт Хейз“? В роль не вписывайтесь. Я там боцманом. А кроме того – судовой делегат. Там со старпомом что-то не так, он фашист, мы сейчас добьемся, чтоб его сменили. Заходите на борт, размещайтесь в кубрике, барахло складывайте, чифаньте, но НЕ вписывайтесь».
Надо было сообразить, потому что когда мы поднялись по трапу на борт, нас в коридоре встретил кто-то из портовых властей и сказал: «Ладно, складывайте пожитки, ребята, а потом – в каюту капитана, впишетесь в роль на этот рейс». Это больше походило на правду. Но мы с Клодом так и не поняли, что же нам делать. Если впишемся, нас что, профсоюз с борта выкинет? Мы пошлялись по кубрику, пообсуждали. Шмотки сложили, спустились в кладовые, нашли огромную флягу холодного как лед молока (молочный бидон пяти галлонов) и почти всю выпили, меж тем зажевывая молоко холодным ростбифом. Побродили по судну, пытаясь прикинуть запутанные канаты, тросы и лебедки. «Научимся!»
На палубе полуюта посмотрели на башни Манхэттена, прямо через реку, и Клод сказал: «Ну, ей-богу, наконец-то я буду свободен от Ф. М.».
Но тут как раз к нам подлетел здоровенный рыжий помощник, в точности похожий на Франца Мюллера без бороды, и сказал: «Это вы мальчики, которые только что на борт зашли?»
«Ну».
«Так а вам разве не сказали пойти вписаться в роль в капитанском салоне?»
«Ну… только боцман нам велел обождать».
«Ах вот оно что?»
«Ну, он сказал, там фугас какой-то…»
«Ссышь, умник, фугас – это ты пральна сказал. Я видел, как вы, оглоеды, в кладовую ходили, и мясо там жрали, и целый фугас молока вылакали, вот вам фугас. Оставьте денег на борту за это мясо, забирайте манатки и валите. Вы уволены вместе с вашим боцманом и прочей никчемной сволочью. Нам на судне экипаж нужен, и я его наберу, хоть костьми лягу, хуесосы с жумчужными жопками никчемушные».
«Мы не знали».
«Ладно вам не знали, отлично вы все знали, в роль вписываешься или не вписываешься, а теперь марш в кубрик, забирайте свое шмотье и валите, да хорошенько валите!» Такой здоровенный он мужик был, что я побоялся пускаться в объяснения, не надо ему было никаких объяснений, да и напугал он меня, а Клод так и вообще побелел весь, как простыня.
И мы пошли, всего через пять минут, вывалились на долгий холодный пирс и поковыляли с пожитками на горбах, к жаркому солнышку жарких убийственных улиц Нью-Йорка в четыре часа пополудни.
Так солнечно жарко, на самом деле, что пришлось остановиться колы выпить на последние наши даймы в маленькой лавчонке. Клод посмотрел на меня. Я не поднимал глаз. Надо было раньше сообразить. С другой стороны, что там затевал этот дурацкий боцман? Старался дружков своих на судно протащить? И курсом на второй фронт, к тому ж… боевые премиальные, да и опасности от германской артиллерии больше никакой. Про это я никогда не узнаю.
Я пренебрегаю Джонни, конечно, которая в те дни выглядела примерно так же, как Мэйми Ван Дорен сегодня выглядит, то же телосложение, рост, почти с той же ухмылкой, когда зубы вперед, такая жаждущая ухмылка и смех, и рьяность вся такая, когда глаза аж щурятся, но в то же время щеки надуваются, и дама наделяется обещаньем, что она будет хорошо выглядеть всю свою жизнь: никаких морщин изможденности.
Возвращаемся мы с Клодом после того долгого дурацкого дня, кидаем пожитки на пол, в квартире везде темно, солнце садится, звонит колокол Объединенной теологической семинарии, внутри никого, только Сесили спит на тахте в развале книжек, бутылок, опивков, окурков, рукописей. Не зажигая свет, Клод тут же ложится к ней на тахту и крепко ее обнимает. Я захожу в спальню Джонни (и мою) и ложусь вздремнуть. Ухмыльчивая Джонни входит где-то час спустя с какой-то едой, что она купила, заняв несколько дубов у знакомого похоронного распорядителя, и мы устраиваем веселый ужин босиком. «Ха ха ха, – распекает нас Джонни, – так вы, сволочи, ни в какую Францию не едете в конце концов! Не надо мне было тратить хорошую пленку на те снимки, что я с вас вчера сделала, пока думала, что больше никогда вас не увижу».