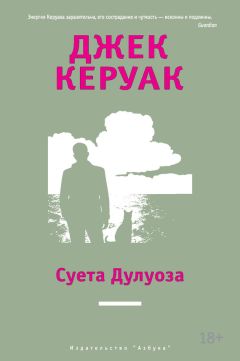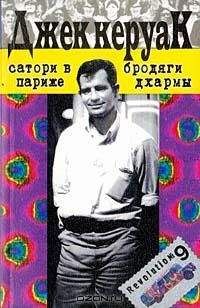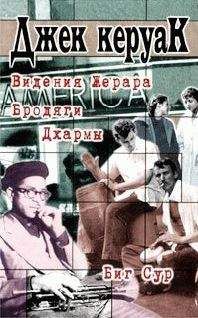«Они их могут истреблять тысячами», – говорит Клод на темном киносеансе.
Выходим мы оттуда и лениво прогуливаемся вниз по Пятой авеню к Музею современного искусства, где Клод задумчиво останавливается у портрета Амедео Модильяни, почему-то своего любимого современного художника. Позади стоит педик, пристально наблюдая за Клодом, бродит вокруг, снова возвращается еще раз на него глянуть. Клод либо замечает, либо нет, но я-то вижу. Останавливаемся перед знаменитой картиной Челищева «Cache Cache»[52] и восторгаемся всеми мелкими касаньями, маленькими лонами, маленькими эмбрионами (эмбриями?), спермой, исторгаемой цветками, это изумительная картина, которую несколько десятков лет спустя повредит огнем – или полтора десятка лет. Затем мы идем через Таймз-сквер и к Залу НМС чисто ностальгии ради, наверное. Клод говорит: «Этот твой Саббас, бывало, лунатил с тобой по улицам Нью-Йорка и Лоуэлла, со всеми своими стихами, насчет „Эй вы там, привет“ и „Больше не будем мы бродяжить“, жалко, что я с ним так и не познакомился».
Едим «горячие собаки», поесть надо, ходим еще, возвращаемся по Третьей авеню, оттуда мало-помалу подбираемся к дому его тетки на 57-й улице, заходим в бар, и на нас наскакивают два моряка, спрашивают, где им можно девчонок на съем найти. Я им говорю, гостиница «Письма твоему сыну». (В то время так оно и было.) Потом Клод говорит: «Видишь, жилетка на мне, она была Франца, она тоже вся в крови, что мне с ней делать?»
«Когда выйдем из бара, просто брось в канаву, наверно».
«Трут эти белые перчатки. Хочешь себе, крестьянин?»
«Ладно, давай». Он изображает, как воображаемо отдает мне эти белые перчатки, «жестом», как сказал бы Жене, но для меня это просто тупая показуха, и он не знает, что делать. Позволь мне грамматические отступления, так же хорошо ясно выложенные во всех барах отсюда до Санкт-Петербурга.
И вот под конец дня на Третьей авеню он просто сбрасывает жилетку (как бы такую кожаную) в канаву, никому дела нет, и говорит: «Теперь я два квартала пойду один, сверну вправо на Пятьдесят седьмую улицу, расскажу тетке, она вызовет адвокатов на Уолл-стрит, потому что у нас есть связи, знаешь, и тебя я больше никогда не увижу».
«Еще как увидишь».
«Как бы то ни было, я пошел. Роскошный это был день, старина». И, повесив голову, он кидается вверх по улице, кулаки в карманах, и делает этот свой правый поворот, и тут как раз большой грузовик, гласящий «РУБИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА», рокочет и грохочет мимо, и я думаю, не скакнуть ли мне на него, вопя: «Ха хаааа», – и свалить из города прочь вновь повидать мой Юг. Но сначала мне нужно увидеться с Джонни.
Но, разумеется, нью-йоркская полиция проворней. Я прихожу повидаться с Джонни, ничего ей не говорю, но вечером дверь стучит, и внутрь загуливают в натуре как бы между прочим два штатских, которые начинают рыться в выдвижных ящиках и переворачивать книжки. Джонни орет: «Что это за хрень?»
«Клод признался, что вчера ночью убил Франца на реке».
«Убил Франца? Как? Почему ты мне не сказал? Ты меня поэтому поцеловал, когда ушел с ним утром? Скажи этим парням, я думаю, что Мюллер сам напросился!»
«Полегче, девушка. Тут что-нибудь есть?» – спрашивает легавый, глядя на меня откровенными голубыми глазами.
«Обычный случай самообороны. Нечего скрывать».
«Ты идешь с нами, сам понимаешь ведь, правда?»
«За что?»
«Важный свидетель. Разве тебе не известно, что если кто-то признается тебе в убийстве, ты должен сразу об этом сообщить в полицию? И где орудие убийства?»
«Мы его уронили в решетку в Харлеме».
«Ну и вот, ты еще и укрыватель преступления. Забираем тебя в местный участок, но погоди минут пятнадцать, полчасика или около, там фотографы хотят тебя снять».
«Снять? Зачем?»
«Клода уже сняли, мальчик. Говорю тебе, сиди тихо, и все. Покуда… эй, Чарли, ладно, в участке увидимся». Чарли уходит, и через полчаса сидения мы отчаливаем, в его машине, в участок, который где-то на 98-й улице, и меня вводят в камеру с доской вместо кровати, без окон, какая разница, и я сворачиваюсь и пытаюсь поспать. Но шум там стоит что надо. В полночь к моей решетке подходит тюремщик и говорит:
«Тебе повезло, пацан, тут целая куча фотографов из нью-йоркских газет ждала тебя целых полчаса».
И вот наутро мне нравится офицер, произведший мой арест, который подумал про эти полчаса, и вот он возвращается, рыгает, говоря, что плотно позавтракал, говорит: «Пойдем», – у него голубые глаза, еврей в штатском, и мы едем в центр в контору ОП[53] за всею бюрократией и допросом.
Он безмятежно ведет машину по Уэстсайдской трассе, медленно, и говорит: «Славный денек», – он почему-то сознает, что я – не опасный преступник.
Меня вводят в кабинет Окружного Прокурора, в то время это Джейкоб Грумет, усики, тоже еврей, стремительно ходит взад-вперед, бумаги разлетаются, а сам говорит мне: «Перво-наперво, юноша, сегодня утром нам пришло письмо из АМХ на Тридцать четвертой улице. Вот. Садись». Я прочел это письмо, карандашом, говорилось:
«Я тебе говорил, Клод паршивец и убьет. Когда мы встретились в „Эль Гаучо“ в тот вечер, и я тебе сказал, ха! ты не поверил. Крыса он. Я тебе всегда это говорил, еще с тех пор, как мы встретились в тридцать четвертом». И так далее. Я подымаю взгляд на Грумета и говорю:
«Это фальшак».
«Ладно, – определяя в папку. – С каждым таким убийством нам похожие письма приходят. Почему именно это фальшак?»
«Потому что, – смеясь, я, – в тридцать четвертом году мне было двенадцать лет, я никогда не слышал про „Эль Гаучо“ и не знаю ни души в АМХ на Тридцать четвертой улице».
«Боженька благослови твою душу, – говорит ОП, – а теперь, детка, вот сержант уголовной полиции О’Тул, который выведет тебя в наружный кабинет и задаст тебе дальнейшие вопросы».
Мы с О’Тулом выходим в другую комнату, он говорит: «Садись, кури?» – сигарету, я закуриваю, гляжу в окно на голубей и жару, как вдруг О’Тул (здоровенный ирландец со шпалером на груди под пиджаком): «Что б ты сделал, если бы педик за хуй тебя цапнул?»
«Да я б ему люлей навешал», – прямо ответил я, ровно глядя на него, потому что вдруг подумал, что он сделает именно это. (Примечание: «Люли» – это выражение Таймз-сквер, означающее «пиздюли», иногда, стало быть, употребляется как «Дюли».) Но О’Тул все равно отводит меня обратно в кабинет к ОП, и тот спрашивает: «Ну?» – а О’Тул зевает и говорит: «О, с ним все в порядке, он натуралист».
Ну, это тебе не корнские враки.
Потом ОП мне говорит: «Ты очень близок к тому, чтобы стать косвенным соучастником этого убийства ввиду твоего пособничества, нет, совета, обвиняемому, в сокрытии орудия убийства и улик и укрывательства их, но мы понимаем, что большинство людей не знает закона, то есть важный свидетель – это свидетель после совершения преступления, который был извещен о факте совершения преступления обвиняемым, но не довел это до сведения органов правопорядка. Либо до факта совершения. Ты пошел и напился с обвиняемым, ты помог ему закопать улики и избавиться от них, мы понимаем, что ты не знаешь или не знал об этом аспекте закона, но большинство парней поступило бы точно так же в тех же обстоятельствах со своими, как ты мог бы выразиться, корешами или друзьями, которые не являются преступниками-рецидивистами. Но тебя еще припекать не перестало. Либо как соучастника после факта, либо как гостя Бронкской тюрьмы, которую мы называем Оперным Театром Бронкса, где индюки поют арии, и тебя никогда не перестанет припекать, если мы установим, что пацан этот виновен в предумышленном убийстве, а не в непредумышленном. Вот „Ежедневные известия“ зовут это „убийством чести“, что значит, парнишка защищал свою честь от известного гомосексуалиста, который также, кстати, был намного крупнее его. У нас тут имеются показания о том, как мужик преследовал его по всей стране из одной школы в другую, навлекал на него неприятности, из-за него парнишку исключали. Все дело висит на том, гомосексуалист ли Клод де Мобри. О’Тул считает, что ты не гомик. Это правда?»
«Я же сказал О’Тулу, что нет».
«А Клод?»
«Нет, ни в малейшей мере. Если б он им был, он бы постарался меня склеить».
«Так, у нас есть еще один важный свидетель, Хаббард, чей отец только что прилетел с запада с пятью косарями наличкой и взял его на поруки. Он гомик?»
«Насколько я знаю, нет».
«Ладно… Я тебе верю. Может, тебе повезет, а может, с другой стороны, и нет. Твоя жена сидит у нас в коридоре, если хочешь с ней повидаться».
«Она не замужем за мной».
«Так, между прочим, она нам и сказала. Беременная, нет?» (Ухмыляясь.)
«Нет, конечно».
«Ну, ступай повидайся с ней и обожди там. Мне теперь нужно потолковать с Мобри».
Я иду в коридор с О’Тулом, они приводят Джонни, мы разговариваем и плачем в кабинете, как в фильмах с Джимми Кэгни, когда время истекает, нам говорят, что пора, она плачет, обнимает меня, хочет, чтоб ее уволокли насильно, как в кино? Я вижу, как два охранника ведут по коридору Клода. Мне приносят «Ежедневные вести», где напечатаны картинки Клода на речной травке, он показывает, куда сбросил Франца. Заголовки гласят: «УБИЙСТВО ЧЕСТИ», и его называют «ОТПРЫСКОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЬИ». Я не шучу, заголовки в нью-йоркских «Ежедневных вестях», должен сказать, они в те дни, должно быть, по вестям изголодались, наверное, осточертели им танки Пэттона, что надрывались на германском фронте, захотелось немножко пряного скандала.