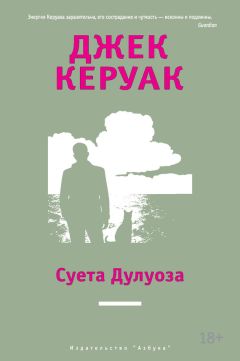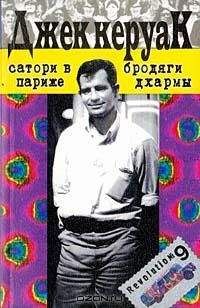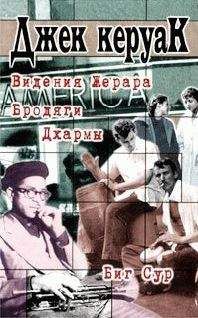Снимки эти, на солнышке булыжной пласы перед Мемориальной библиотекой Лоу, Университет Коламбиа, показывают Клода и меня – мы небрежно привалились, одна нога на бортике фонтана, курим, хмуримся, крутые морские волки. Другой – одного Клода, руки вдоль тела висят, в одной бычок, похож на дитя радуги, как впоследствии Ирвин его называл в одном стихотворении.
Такая себе радуга.
Потом мы с Клодом идем в бар «Уэст-Энд» выпить по нескольку пив и обсудить нашу следующую попытку с профсоюзом. Он вступает в большой метафизический спор с Роем Плантагенетом или еще кем-то, а я иду домой еще поспать, или почитать, или принять душ. Прохожу мимо часовни Св. Павла в студгородке и спускаюсь по тамошним старым деревянным ступенькам, а тут развязно скачет Мюллер, целеустремленный такой, бородатый, в сумраке, мне навстречу, видит меня, говорит: «Где Клод?»
«В „Уэст-Энде“».
«Спасибо. До скорого». И я смотрю, как он линяет навстречу своей смерти.
Потому что на рассвете меня будят под боком у Джонни, было так жарко, что нам пришлось разложить тахту Клода и застелить ее поперек широкими простынями, на сквозняке наискосок от окон, и вдруг надо мной стоит Клод, светлые волосы ему падают на глаза, трясет меня за руку. Но я на самом деле и не очень сплю. Он говорит: «Ну, я ночью избавился от старика». И я в точности понимаю, о чем он. Не то чтоб он Смердяков, а я ему Иван Карамазов, но – понял. Но сказал:
«И зачем же ты пошел и это сделал?»
«Сейчас времени нет объяснять, у меня до сих пор нож и очки его все в крови. Хочешь, пошли со мной, поглядим, как их можно выкинуть?»
«Ты нахер зачем же пошел и это натворил?» – повторил я, вздыхая, как будто меня разбудили известием о новой протечке в подвале или на кухне в раковине еще одна кошачья какашка обнаружилась, но я подымаю свои усталые кости, как моряк, которому опять на вахту, и иду в душ, надеваю твиловые штаны и футболку, и возвращаюсь к нему, а он стоит у окна и смотрит в переулок как-то смущенно. «Ты что на самом деле натворил?»
«Ударил его в сердце двенадцать раз моим бойскаутским ножиком».
«Зачем?»
«Он на меня прыгнул. Говорил, я тебя люблю и всякое такое, и жить без меня не может, и убьет меня, нас обоих убьет».
«Последний раз я ж вас с Плантагенетом видел».
«Ну, только он зашел, мы выпили, двинули к Хадсону на травку у реки, у нас бутылка была… я с него рубашку белую снял, порвал на полоски, обвязал ими камни, а полоски привязал ему к рукам и ногам, снял с себя все и столкнул его в воду. Он тонуть не хотел, мне потому и пришлось раздеться, потом, и зайти по горло и его подтолкнуть. После этого он куда-то поплыл. Вверх тормашками. А потом моя одежда на траве осталась, сухая, жарко же, сам знаешь. Я оделся, поймал такси на Риверсайд-драйве и поехал спросить у Хаббарда, что делать».
«В Деревню?»
«Он мне дверь открыл в халате, и я отдал ему пачку „Лаки“ всю в крови и говорю: „Выкури последнюю“. Как и ты, он, похоже, почувствовал, что произошло, можно сказать. Напустил на себя лучший вид Клода Рейнза и стал ходить взад-вперед. А „Лаки“ смыл в унитаз. Сказал мне признавать самооборону, а это ж она и была, господи ты боже мой, Джек, я все равно на сковородку сяду».
«Не сядешь».
«У меня тут этот нож, эти очки бедняги Франца… он только одно повторял: „Значит, вот как Францу Мюллеру конец“». Он отвернулся, как моряки отворачиваются, чтобы поплакать, только он не плакал, он не мог плакать, наверное, уже наплакался. «Потом Хаббард мне сказал пойти и сдаться, позвонить бабушке и добыть хорошего новоорлеанского адвоката, а потом сдаться. Но я просто хотел с тобой увидеться, старина, выпить с тобой напоследок».
«Ладно, – грю я, – я только что вчера вечером у Джонни три дуба нахнокал, у тебя сколько? Пошли напьемся».
«Хаббард мне пятерку дал. Поехали в Харлем. По пути я очки в кустах сброшу и ножик там в Морнингсайд-парке». Фактически, говоря это, мы уже бежали вниз по лестнице шесть пролетов, и я вдруг подумал о бедной Джонни, как она там спит, ничегошеньки не зная, поэтому когда мы вылетели на улицу, я сказал Клоду обождать секундочку, а сам кинулся вверх по лестнице бегом, через две-три ступеньки, во всей этой жаре, отдуваясь, только забежать и чмокнуть ее, не будя (это она вспомнила, как потом рассказывала), потом снова сбежать вниз к Клоду, и мы с ним рванули по 118-й и по каким-то каменным ступенькам Морнингсайд-парка. Со всех крыш Харлема и Бронкса подальше, видно было, извергается в небо жар и дым августа 1944-го. Отвратительная жара уже рано поутру.
В кустах возле подножия я сказал: «Я сделаю вид, что отливаю, буду озираться очень встревоженно, чтобы привлечь внимание, кто б ни наблюдал, а ты просто зайди и закопай ножик и очки». Ей-богу, инстинкт у меня был верный, в предыдущей жизни, должно быть, этому научился, в этой я совершенно точно такого не знал, но он по-любому ровно это и сделал, распинал какие-то комья земли, уронил туда очки, опять землю ногой заровнял поверх них (без оправы, грустных) и какими-то ветками с листвой накрыл, и мы оттуда ушли, руки-в-карманы, в одних футболках и лишь вдвоем к барам Харлема.
Перед баром на 125-й улице я сказал: «Так, гляди, хорошая решетка подземки, сюда деньги все время падают, и детишки лепят жвачку на концы длинных палок и выуживают их. Кинь туда ножик, и давай пойдем в этот прохладный салон, полосатый, как зебра, и тяпнем пивка холодного». Что он и сделал, но теперь не украдкой, а на виду у всех театрально опустился на колени и выпустил нож из негнущихся пальцев очень театрально, как будто это единственное, чего ему не хотелось прятать на самом деле, но тот упал, ударился о решетку, застрял в ней, он его пнул, и ножик упал 6 футов вниз на обертки от жвачки и всякий мусор. Тем, кто его даже видел, все равно никакого дела не было. Нож, бойскаутский ножик, что, полагаю, с четырнадцати лет у него был, когда он пошел в бойскауты учиться мастерить что-нибудь из дерева, но лишь столкнулся с вожатым Маркизом де Садом, лежал теперь там, вероятно, среди заначек сброшенного героина, марихуаны, других ножей, гандонов, чего-не. Мы зашли в бар с кондиционером, и сели на прохладные крутящиеся табуреты, и заказали по холодному пиву.
«Я точно на сковородку попаду. Жариться буду в Синг-Синге. Сингером вас грешных воспевать, мальчонка».
«Ай да ладно тебе, Уилл прав, это вопрос защиты всей твоей чертовой жизни от…»
«…помнишь, мы кино это на той неделе смотрели с Сесили и Джонни, „Les Grandes Illusions“,[51] Жан Габен там пейзанский солдат, Клод Лебри де ла Мерд, или как там его звали, который ходит в белых перчатках, они еще вместе сбегают из немецкого лагеря? Ты – Габен, ты крестьянин, а я, мне эти белые перчатки уже руки натерли».
«Хватит дуру гнать, мои предки были бретонские бароны».
«Вешаешь же, сам знаешь, я б их даже искать не стал, если б даже это было правдой, потому что уж я-то знаю, если и бароны они были, то какие-то крестьянские». Но все это он сказал эдак по-доброму, тихим голосом, и разницы никакой не было. «Мы сегодня вот что сделаем – мы напьемся, даже денег займем, а потом вечером я пойду сдаваться. Пойду домой к сестре Матери, как напророчили. На стул наверняка сяду, поджарюсь. Он у меня на руках умер. Вот какова история жизни Франца Мюллера, он все время повторял, вот, значит, как все заканчивается, вот что со мной случилось. „Случилось“, учти, как будто оно уже раньше стряслось. Надо было мне в Англии остаться, где родился. Я его в сердце пырнул, вот в эту часть, двенадцать раз. Я его столкнул в реку со всеми этими камнями. А он поплыл вверх ногами. Голова под воду ушла. И мимо все эти суда идут. Мы на то чертово судно в Бруклине не сели. Я так и знал, что-то пойдет не так, когда мы на то чертово судно не сели. Тот чертов первый помощник, рыжий, он на Мюллера был похож».
«Поехали на подземке в центр, кино поглядим или что-нибудь».
«Нет, поехали лучше на такси к моему психиатру. Я у него пятерку займу». И мы вышли на улицу, тут же такси поймали, что на виду елозило, доехали до Парк-авеню и вошли в шикарный вестибюль, вверх на лифте, и я подождал снаружи, пока он внутри признавался во всем своему психиатру. Вышел с пятидолларовой купюрой и сказал: «Пойдем, он умывает руки. Пошли только быстрее, за угол и на Лекс. Он, по-моему, мне не верит».
Мы шли дальше и выбрались на Третью авеню, где увидели на козырьке рекламу кина «Четыре пера». «Давай на него». Мы вошли как раз к началу этой постановки Дж. Артура Рэнка упомянутых «Четырех перьев», у которой в сюжете есть парень по фамилии Хаббард. Мы оба морщились, когда слышали эту фамилию в диалогах. Картина в «Техниколоре». Вдруг тысячи фуззи-вуззи и английских солдат начинают крошить и истреблять всех налево и направо в Битве на Ниле возле Хартума.
«Они их могут истреблять тысячами», – говорит Клод на темном киносеансе.
Выходим мы оттуда и лениво прогуливаемся вниз по Пятой авеню к Музею современного искусства, где Клод задумчиво останавливается у портрета Амедео Модильяни, почему-то своего любимого современного художника. Позади стоит педик, пристально наблюдая за Клодом, бродит вокруг, снова возвращается еще раз на него глянуть. Клод либо замечает, либо нет, но я-то вижу. Останавливаемся перед знаменитой картиной Челищева «Cache Cache»[52] и восторгаемся всеми мелкими касаньями, маленькими лонами, маленькими эмбрионами (эмбриями?), спермой, исторгаемой цветками, это изумительная картина, которую несколько десятков лет спустя повредит огнем – или полтора десятка лет. Затем мы идем через Таймз-сквер и к Залу НМС чисто ностальгии ради, наверное. Клод говорит: «Этот твой Саббас, бывало, лунатил с тобой по улицам Нью-Йорка и Лоуэлла, со всеми своими стихами, насчет „Эй вы там, привет“ и „Больше не будем мы бродяжить“, жалко, что я с ним так и не познакомился».