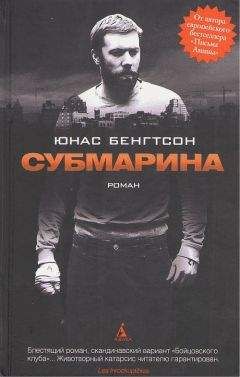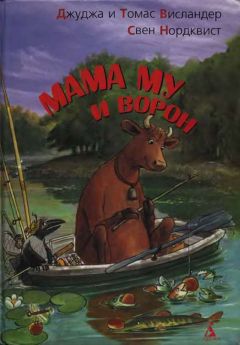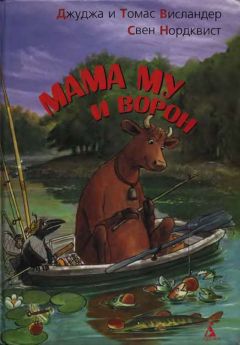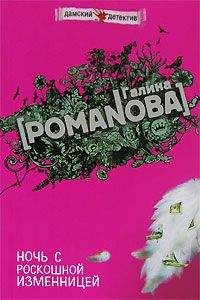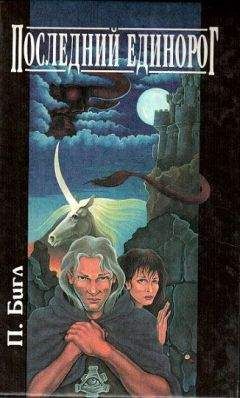Один из пап наряжен Санта-Клаусом. Большая белая борода, на животе подушка, костюм Санта-Клауса. Когда он заходит, снаряженный большим мешком, дети громко кричат и бегут ему навстречу. Он выпил лишку глинтвейна и чуть не падает в своих красных мешковатых штанах. Раздает пакеты со сластями и игрушками, дети его едва не роняют. Им достаются пазлы, пластмассовые самолетики, мячики, куколки с косичками. Дешевые игрушки, не дороже двадцати крон. Знаю, поскольку мы все сдавали деньги.
Я ем пончик, а Мартин присосался к пакетику с соком, и тут к нам подходит Мона. На ней красный колпак, красная юбка. Гном с карими глазами и такой кругленькой попкой. С Рождеством, говорит она. Здорово здесь, говорю я, потому что не знаю, что еще можно сказать. Моны ведь не было, когда я с вытаращенными глазами прибегал за Мартином, опаздывал, всегда опаздывал. Не было, когда на обед я давал ему с собой хот-дог в салфетке. У меня на все были оправдания, всегда.
Где сменная одежда? Оправдания.
Где резиновые сапоги? Оправдания.
Теперь все по-другому. Я знаю, что говорят воспитатели. Он нашел работу. Постоянную работу, какая перемена, иногда только это человеку и нужно.
Мона говорит, что будет встречать Рождество с родителями. Они живут где-то в Зеландии, в маленьком городке, о котором я никогда не слышал. Она понимает, никто о нем не слышал. Мы смеемся — смеемся даже без повода. И тут она незаметно вкладывает мне в руку клочок бумажки.
Толстый мальчик облился соком, облил стол и девочку на полу. Мона бежит к нему, оборачиваясь, посылает мне мимолетную улыбку.
В этот вечер мы не ужинаем, оба наелись пончиков и пирога.
Мартин возится с пазлом, выкладывает все на стол и начинает с верхнего левого угла. Потом зовет меня.
Ему трудно помогать, подкладывать детали и делать вид, что он сам до всего додумался. Иногда я кладу детали так, чтобы он на них не мог не натолкнуться, иногда беру деталь в руки и спрашиваю: не эта случайно? И он хватает ее своими пальчиками и прикладывает. Она подходит, всякий раз.
После вечернего укола и косячка, чтобы расслабиться, я ложусь в кровать.
Смотрю на бумажку, которую дала мне Мона Номер, читаю цифру за цифрой, смотрю, как она написала свое имя — Мона «М» склоняется к «о», почерк аккуратный.
Я улыбаюсь.
Она дала мне свой номер.
Дала его мне.
Думала об этом, думала: я дам ему свой номер.
Конечно, я не позвоню. Зачем это Мартину, чтобы я путался с его воспитательницей, хотя бы и со студенткой, которой скоро там не будет. Да и скрывать свои пристрастия я не собираюсь, слишком большая это работа.
Но она мне его дала Вот он, рядом со мной.
В другой жизни, если бы я был другим, я бы позвонил. Конечно позвонил бы.
Но как давно это было…
Я не думал о девушках с тех пор, как она исчезла из нашей жизни. Не думал об отношениях. Бывало, дрочил в туалете, на журнальных красоток или представляя какую-нибудь особенно приглянувшуюся в автобусе девушку. Но нечасто. На героине тебе не до того куска плоти, что находится между ног. Ты думаешь: где достать денег? На сколько мне хватит? Когда будет следующий раз?
С тех пор как я обзавелся своим собственным складом, все изменилось.
Я не забуду ее. Но это и не нужно.
Если я найду себе девушку, то такую, чтобы употребляла, не постоянно, но так, чтобы не косилась на меня, когда я втыкаю в руку иглу. Так, воскресное развлечение. Но она должна себя контролировать, чтобы не было зависимости, и никакой скорости, никакого кетогана, и героина не больше, чем уместится на ногте, а столько я ей обеспечу.
У меня перед глазами возникает объявление о знакомстве:
Ищу молодую, красивую, желательно стройную девушку для дружбы,
возможно, для чего-то большего.
Желательно некурящую.
Мне около тридцати, есть сын, славный мальчик
шести лет.
Люблю долгие прогулки на природе, хорошую музыку,
люблю ходить в кино, ужинать при свечах и впрыскивать в вену
практически чистый героин.
Ответ с пометкой такой-то присылать в газету…
Складываю бумажку с номером Моны, кладу на тумбочку; не знаю, почему просто не выкинул.
Я лежу в кровати, на сон это не похоже. Вся мебель на своих местах. Сквозь тонкие стены я слышу, как бьют соседские часы. Встаю, иду босиком. Заглядываю к Мартину, он спит, обняв большого желтого медведя, держит его за шею, как будто хочет задушить. Выхожу на кухню, радуюсь, что накануне помыл посуду. Открываю дверцу шкафа и вынимаю пакет с героином. Здесь я, должно быть, повернулся во сне, застонал, удивленный. Пакет в единственном числе, один пакет, больше нет. Я рассматриваю его на свету, проникающем в окно. Пакет пуст. На дне — немного белого порошка, для укола недостаточно, только для мыслей о муке или разрыхлителе. Я сажусь за стол, держусь руками за голову, плачу, разглядывая пустой пакет на столе. Во сне я знаю, что это значит. Знаю, что ад бывает не после смерти, ад — это не другие. Ад — это сидеть, глядя на пустой пакет, в то время как твой маленький сын спит рядом.
Сижу на кровати, все еще не понимая, что это только сон. Я все еще человек с пустым пакетом. Иду на кухню, не зажигая света, вожусь с металлической коробкой с героином в темноте. Уже заглянув в нее, подержав пакеты, я продолжаю сидеть за кухонным столом и курить, пытаясь нормализовать дыхание. Завтра начну продавать. Завтра. Включаю свет, вынимаю электронные весы. Остаток ночи я делаю пакетики с белым порошком. Я никогда не стану человеком из сна.
45
— Ты придешь в четыре, да?
Я слишком долго не разжимал объятий, он почувствовал: что-то не так, как обычно. Да, солнышко, я приду в четыре. Я обещал, что не буду забирать его последним, оставлять с раздраженным воспитателем, который уже все убрал и хочет домой.
Да, солнышко, я обязательно тебя заберу. Он держит меня за шею, я как можно мягче высвобождаюсь и встаю. Папа обязательно тебя заберет.
В автобусе начинают потеть руки. Выхожу на Ратушной площади, прохожу по Истедгаде. Каким далеким кажется путь. Никто на меня не смотрит, никто не пялится, всем все равно. Я иду по Истедгаде, проверяю внутренний карман куртки: все там, все четыре. Маленькие пакетики с наркотиком, белые пакетики, свернутые и запаянные в пищевую пленку. Я видел, как это делается, и сделал так же. Приблизившись к церкви, беру их в руку, приготовившись выбросить или проглотить. Ненавижу это место. Ненавижу церковь, ненавижу джанки у церкви. Ненавижу здесь стоять. Те несколько раз, что мы покупали на улице, это делала она. Ей было все равно: хочешь поставиться? Да. Почему же не покупаешь? Я никогда толком не мог объяснить. По крайней мере вслух. Пока мне было где жить, пока я мог обдурить продавцов в супермаркете, я не был таким, как они, уличные джанки.
Я не такой.
И сейчас не такой. Особенно сейчас.
Я должен это помнить.
Я акула. Волк. Чудовище под кроватью.
Я тот, кто имеет. А они те, кто хочет иметь. Такие дела.
Все еще рано. У церкви стоит всего несколько человек. Потирают руки. Готовятся к плохому или очень плохому дню. Я подхожу, они смотрят на меня как на заблудившегося туриста.
У меня есть. Хорошее качество. Первый клюнул. Мы заходим за церковь. Недалеко, по утрам здесь немного полиции. Практически чистый. Убийца. Только сегодня. На нем джинсовая куртка, грязная белая футболка. Воспаленная рана на шее; задув кетоганом. Смотрит недоверчиво:
— Коричневый?
— Нет. Высший сорт.
На улице цена постоянная. Только так, и никаких переговоров. Всегда две сотни. Три дозы — пять сотен. Только так. Не потому, что барыги сговорились и установили цену. Но когда все знают, что это стоит две сотни, можно быстро приготовить деньги, а не стоять и отсчитывать или торговаться, пока мимо медленно проезжает патрульная машина.
Что действительно на улице нестабильно, так это качество. Товар никогда не бывает того же качества, как тот, который покупаешь на квартирах. Но уличные нарики подвели своих дилеров. Они превысили кредит, достали, слишком жалко выглядят, чтобы дилер захотел видеть их в своем подъезде. Они оказались на улице, у церкви, им некуда больше идти.
— Не берешь — не надо. Твои проблемы.
Делаю вид, что собираюсь уйти. Я акула, я волк.
— Эй, чувак, постой!
Когда я оборачиваюсь, он уже достал деньги из внутреннего кармана. Купюры мятые, и, когда он их протягивает, становится видно: то, что я принимал за татуировку на костяшках пальцев, — тоже ранки. Сую деньги в карман и протягиваю ему пакетик.
— Передай там всем, что есть хороший стаф.
Он на меня не смотрит, уже достал свое хозяйство, сел на корточки у стены, полускрытый за мусорным баком. Это правило улицы. Воткни канюлю в кратер, воткни иглу в шею как можно скорее. Если тебя возьмут с товаром, то все заберут. Если ты успел воткнуть иглу, тебе дадут закончить.