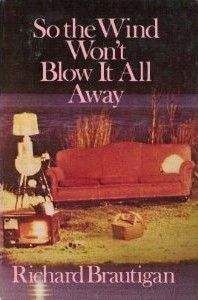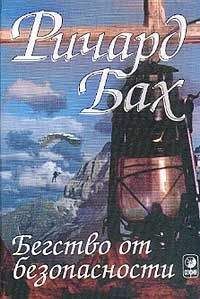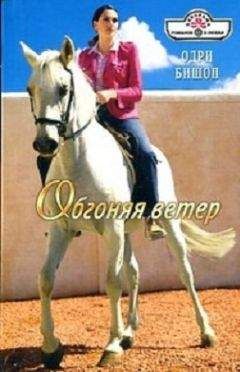Я не знал какой именно жребий ему выпал, но даже если бы знал, не поменялся бы с ним судьбами даже за весь чай Китая — так часто говорили в 40–е годы, теперь, в 1979–м этого выражения почти не услышишь.
Если вы скажете «даже за весь чай Китая» сейчас, то ответом вам будут лишь удивленно поднятые брови, но в то время эти слова кое–что значили. Вас бы поняли.
Я по–настоящему расстроился из–за того, что на похоронах не было детей. Я поклялся, что отныне буду внимательным ко всем, особенно к детям. Сделаю все для того, чтобы у меня появились новые приятели, возобновлю и укреплю старую дружбу.
Ни при каких условиях я не желал кончить свою жизнь так, как этот несчастный беспомощный ребенок, которого хоронили только взрослые. С сегодняшнего дня я перестану ссориться с дочкой похоронщика.
Я даже… я даже возьму ее за руку. Если я вдруг умру, и она не придет ко мне на похороны, это будет самое ужасное, что только может случиться на свете. Это станет для меня последним ударом. Жаль, что сейчас не зима, а то бы я надел варежки. Нет, так нельзя. Я твердо обещал себе взять ее за руку, чтобы она пришла потом на мои похороны.
Маленький гроб поставили на катафалк, сверху уложили венки и букеты, и они словно поглотили его целиком. Если бы живым вдруг захотелось поиграть в прятки, лучше места, чем этот катафалк, трудно было придумать. Среди стольких цветов тебя в жизни никто не найдет.
ГДЕ ДОЧКА ПОХОРОНЩИКА? — эта мысль вдруг хлопнула у меня в голове, точно первый удар ремня по заднице. Она не пришла на похороны; но потом я подумал, что, значит, она тоже не дружила с умершим ребенком, иначе стояла бы здесь в коротком черном платье, прижимая к глазам белый, как луна, платок.
Катафалк двинулся с места, процессия тенью последовала за ним, словно хвост черного воздушного змея, а я стал думать о дочке похоронщика и о ребенке, направлявшемся сейчас к кладбищу, где он останется один, когда все остальные вернутся назад. О размерах «навсегда» я знал тогда только то, что оно дольше, чем ждать Рождества.
Я верил, что «навсегда» тянется гораздо медленнее, чем 39 дней перед Рождеством, когда люди покупают подарки.
Вчера, пока я играл с дочкой похоронщика, а потом убежал, испугавшись, что придется брать ее за руку, мертвый ребенок лежал у них в конторе, и его готовили к сегодняшним похоронам. Мы играли на улице, а из него в это время выкачивали кровь и заменяли ее бальзамирующей жидкостью.
Интересно, видела ли дочка похоронщика, как к ним в контору привезли мертвого ребенка — если это была девочка, дочка похоронщика наверное подумала: ну что ж, мы никогда не будем играть с ней в куклы; а может, она знала, что с ней никто не дружил, и вообще не думала ни о каких играх.
Что за жуткие мысли, скажете вы — но именно об этом я думал, стоя на своем насесте и таращась в пустоту, которая только что была похоронами ребенка.
Я удивлялся, как дочка похоронщика может не бояться мертвецов, но потом решил, что человек, предпочитающий «Центральный вокзал» «Голосам духов» способен на все.
Чуть позже, услыхав, что по квартире кто–то ходит, я опустил жалюзи и слез со стула. Поставил стул на место. Сегодня я не хотел, чтобы меня ругали.
Я направился к кровати, собираясь хорошенько обдумать все, что видел, но, вспомнив о мертвом ребенке, лежавшем сейчас в заваленном цветами гробу и направлявшемся на кладбище, вдруг резко расхотел ложиться. Я решил, насколько это будет возможно, провести весь день на ногах — хотя бы для того, чтобы как следует их потренировать.
Прошло несколько месяцев, мы уехали из этой квартиры, и с тех пор я не встречал дочку похоронщика. Наверняка она выросла, поступила в колледж, вышла замуж, нарожала детей и так далее. Может даже, у нее потеплели руки.
Мне бы следовало думать о ней чаще. За последние несколько лет я вспоминал ее лишь три или четыре раза, а может и того меньше.
Время, когда я жил рядом с похоронной конторой и, словно незваный гость за уличной вечеринкой, подглядывал за похоронами, представляется мне теперь туманным сном.
Дочка похоронщика стала персонажем этого сна. Неужели я действительно стоял в пижаме на стуле и с таким удовольствием таращился на похороны? Неужели мы действительно жили когда–то в квартире, которая прежде была частью похоронного бюро? Неужели мне снились по ночам руки похоронщиковой дочки, выраставшие из земли, словно белые маргаритки на Эвересте? Неужели я действительно прятался от них до тех пор, пока не застал однажды утром похороны мертвого ребенка, у которого совсем не было друзей, и, не желая себе такой судьбы, бросился добиваться этих рук, точно они стали для меня не менее притягательными, чем теплые рукавицы в морозный зимний день?
Да, я все это помню:
Чтоб ветер не унес все это прочь
Пыль… в Америке… пыль
Вот и все о дочке похоронного агента, а я с мешком пивных бутылок на плече все еще бреду в сторону пруда, у которого эти люди, стащив с кузова мебель, скоро начнут обустраивать свой невероятный дом.
Детские мысли о ранней смерти по–прежнему разматываются у меня в голове — очищаются от шелухи, вот более точные слова — подобно тому, как в пелене набухающих слез, очищается от шелухи лук, распадаясь на все меньшие и меньшие кружки до тех пор, пока лук не исчезнет совсем, а я не перестану плакать.
Прошло пять лет, мы давно уехали из приснившейся мне квартиры рядом с похоронной конторой и жили совсем в другом месте. Вторая Мировая война продолжалась. Она цеплялась за людей беззубыми деснами, хотя всем было ясно, что конец близок.
Войну можно было считать практически несуществующей, если только забыть, что каждый день гибли люди — и будут гибнуть до тех пор, пока она не завершится на самом деле.
Дни вытекали из Японской Империи и из моего детства — каждый новый шаг приближал меня к 17–му февраля 1948 года и к заброшенному саду, где мое детство рухнет, подобно древним римским развалинам; на этом мы и остановимся: Японская Империя и мое детство внимательно прислушиваются к умирающему дыханию друг друга.
Дом, где я тогда жил, находился всего в двух адресах от этого пруда. Следующий адрес унес меня за сотню миль в ядовито–желтую квартиру, где через несколько дней после переезда сгорел радиоприемник — самая важная и дорогая ее часть; на новый не было денег, поэтому вечерами нашему маленькому вэлферному семейству оставалось только сидеть и смотреть друг на друга, пока не приходило время ложиться спать.
У меня нет слов, чтобы описать, как важно было в те дни слушать радио.
Следом за квартирой без радио идет мотель, от дверей которого начинается дорога к моему милому пруду и его рыболовной мебели.
И все же вернемся на два адреса назад; потом я расскажу вам историю о тишине и мертвых игрушках. Наше жилье представляло собой очень старый дом, за который мы платили всего двадцать пять долларов в месяц. Спасибо тебе, вэлфер! Мы прожили там довольно долго — успело смениться четыре времени года.
Перед домом росло ореховое дерево. Во дворе имелось несколько яблонь, вишен и большое строение — одновременно гараж, склад для инструментов и дровяной сарай.
Гараж не в счет — мы были слишком бедны для машины, но достаточно богаты для дров. Мать готовила на дровяной плите, и ими же отапливался дом.
Я терпеть не мог колоть дрова.
Еще там росла высокая трава, которую полагалось косить, и это занятие я тоже терпеть не мог. Весной мы посадили огород, где я после долгих уговоров полол сорняки. Это было время между двумя отчимами, и всю работу в огороде матери приходилось делать самой.
Примите как данность: я был из тех мальчиков, которые очень не любят домашние дела. От любой работы я старался держаться как можно дальше. Нельзя сказать, что я был так уж ленив — я занимался множеством разных дел, но всегда это было то, что мне нравилось, от компромиссов же я уворачивался, как мог.
Я любил стариков и проводил с ними много времени. Они тянули меня к себе, подобно паукам, к которым я тоже питал необъяснимую симпатию. Я мог часами сосредоточенно наблюдать за паутиной, но при взгляде на огородные сорняки, которые требовалось срочно извести, я издавал длинный, как рекламный щит на автотрассе, тоскливый вздох.
Поздней весной 1945 года в доме рядом с «нашим» появился мальчик. Он был старше меня и при этом по–настоящему хороший пацан. Из тех, на кого другие мальчишки смотрят снизу вверх, и с кем все вокруг мечтают подружиться.
Кажется, ему уже исполнилось двенадцать лет; он был бойскаутом, и через некоторое время после того, как переехал в этот дом, нанялся развозить газеты — у мальчишки имелись велосипед и честолюбие. Он готовил себя к жизни, полной славы и достижений.
Благодаря его стараниям купленный еще до войны велосипед сверкал, как новенький. Два года спустя, когда у меня наконец тоже появился велосипед, вид у него постоянно был замызганным, но меня это нисколько не волновало. Мой велосипед начинал свою жизнь ярко–синим, но быстро заляпался грязью так, что невозможно стало различить, какого он цвета, да и вряд ли кому–нибудь пришло бы в голову этим интересоваться.