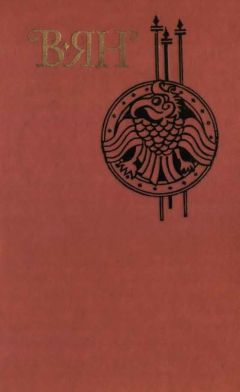Василий Григорьевич ЯН
ПИСЬМО ИЗ СКИФСКОГО СТАНА
…Она, может быть, еще жива. Сухая, как стручок, темная, как шоколад, она сидит около костра из душистого вереска и рассказывает о далеких временах, сверкая белыми зубами и ожерельем из изумрудов. И в глазах ее, блестящих живой мыслью, вспыхивают синие искры чудесных воспоминаний…
АвторЧетыре наших верблюда стояли, в недоумении поворачивая высоко поднятые головы. Сошли с коней суровый Мердан, джигит-афганец, и переводчик Курбан и остановились возле верблюдов, сбивая плетками соленую пыль с сапог. Проводник, взятый из последнего персидского селения, сидел на корточках и чертил веткой гребенщика по мягкой, как зола, солончаковой почве.
Мы перевели коней на рысь и подъехали к нашему маленькому каравану. Профессор Хэнтингтон, который всегда вспыхивал, как ракета, стал кричать мне, погоняя своего маленького хивинского иноходца:
— Проводник, наверное, обманщик! Взялся проводить нас до Кяфир-Калы, уверяя, что знает дорогу, а оказался обычным восточным лгуном. Ничего не знает… Что мы будем делать? На вашей сорокакилометровой карте ничего не понять. Города показываются там, где они не намечены, а нужных городов не появляется. На американских картах этого не бывает.
Когда маленький профессор сердился, он всегда уверял, что «в Америке все лучше».
— В чем дело, Курбан? Почему вы стоите?
— Вот этот человек говорит… — засмеялся по своей привычке Курбан, скаля ослепительные зубы и забрав глаза во множество морщинок, — этот человек говорит, что здесь три дороги и все три плохие. Если хорошо заплатите, то он пойдет дальше, а не заплатите, повернет домой.
Хэнтингтон, вспомнив, что он сын набожного квакерского пастора, стал еще пуще горячиться и выпаливать множество слов, которые Курбан вряд ли понимал:
— Скажи этому несчастному обманщику, что если он договорился, если он дал слово, то, как порядочный, честный гражданин, он должен это слово исполнить! Американская пословица говорит: «Один человек — это одно слово, а не два слова». У нас в Америке…
Я прервал его:
— Позвольте, дорогой Хэнтингтон! Все дело в каких-нибудь десяти лишних кранах[1]. Дадим ему их и двинемся дальше…
— Они, понимаете, они… (Профессор подразумевал под словом «они» всех «восточных» людей, в противоположность культурным «белым»; к восточным он в душе причислял и меня — «московита».)… Они, — задыхался Хэнтингтон, — будут над нами смеяться. Вся равнина от Зюльфагара[2] до Индии будет через три дня знать, что мы дураки, которых всякий может обмануть. Скажи ему, что он, как американцы говорят, «хэмбог» — надувальщик!..
Курбан снова смущенно засмеялся. Оттянув челюсть вниз и скосив глаза на кончик носа, он сказал:
— Слушаю, америкен бояр-ага[3].
И он стал что-то говорить проводнику, равнодушно сидевшему на пятках. Курбан указывал плеткой и на меня, и на американца, и на джигитов. Он проводил руками по бороде, указывал на небо и на землю и наконец ткнул плеткой в живот вздрогнувшему верблюду. Проводник ответил по-персидски одной фразой. Курбан захихикал и согнулся, деликатно почесывая спину:
— Он большой нахал!
— Так что же он говорит?
Курбан снова хихикнул. Хэнтингтон погрозил проводнику своей маленькой рукой и прошипел, делая свирепое лицо:
— Хэмбог! Ты — хэмбог! — и, угрожая плеткой, стал надвигать крошечного иноходца на огромного, неповоротливого, как верблюд, горного крестьянина.
Мердан, желая предотвратить катастрофу, вмешался:
— Америкен-бояр! Ты его не бей! Не надо бить. Он убежит, и тогда мы пропали. Он просит, извините пожалуйста, еще десять кранов и немного териака[4]: он териакеш и иначе идти не может, у него курсок[5] плохой…
— Ол-райт! Мы дадим ему еще десять кранов и териак. Но знает ли он дорогу?
Курбан переспросил проводника, провел руками по бороде и объяснил:
— Он очень даже знает, только здесь есть три дороги, и все три плохие. Колодца нет, травы нет, карапшик[6] много… Лучше, говорит, поедем домой, он нам плов делать будет.
Мы двинулись дальше по седой солончаковой пустыне.
Мы шли до темноты, однако не встретили ничего похожего на ручеек или колодец. Полузасохшие стебли ползучих растений с соленым кристаллическим налетом на ветках наводили уныние. Нередко попадались следы диких ослов. Мердан показал нам на горизонте несколько точек, едва заметных в дрожащем воздухе. Это были дикие ослы, а может быть, куланы[7]. Мы с трудом разглядели в цейсовский бинокль их желтые спины с черными полосами на хребтах. Животные вскоре скрылись за холмами.
Хэнтингтон высказал предположение, что проводник хочет нас привести в лагерь кочевников-разбойников, и утверждал, что нам следует двинуться по компасу на юг, не слушая «хитрого восточного хэмбога».
К несчастью, пятый наш джигит, русский молоканин[8] Михаил, заболел тяжелым приступом лихорадки. Он был почти без сознания, лежал животом на своем рыжем жеребце, обняв его за шею. Голова больного беспомощно болталась при каждом шаге коня.
В сгущавшихся сумерках мы не хотели останавливаться, полагая, что привал на солончаке не принесет отдыха ни нам, ни животным. Мнения разделились. Хэнтингтон считал, что надо продолжать идти на юг; я же возражал, что далеко на юг тянется голая безводная степь, поэтому необходимо направляться прямо на восток к афганской границе. Там, в предгорьях, куда докатываются последние вздохи горных ручьев, можно встретить бродячих арабов или кочующих афганцев. Они нас накормят, мы дадим передышку животным и снова двинемся на юг, к нашей конечной цели Белуджистану.
Хэнтингтон твердо стоял на своем; он опасался враждебных действий афганцев, которым ничего не стоило ограбить нас и бесследно исчезнуть в беспредельных равнинах.
В конце концов решено было разделиться: со мной поедет афганец Мердан и переводчик-туркмен из Теджена — Курбан; больной Михаил, молодой джигит Хива-Клыч и все верблюды пойдут с Хэнтингтоном на юг. Через два-три дня, если все будет благополучно, мы должны снова встретиться на сто километров южнее. Проводник, проглотив темный шарик опиума, равнодушно сказал, что пойдет с верблюдами хоть к самому шайтану.
Через несколько минут мы втроем ехали на восток, а к югу от нас в сумерках терялись силуэты мерно покачивавшихся верблюдов и затихал звон их боталов.
Начали попадаться небольшие овраги — хороший признак, — значит, сюда доходят потоки воды во время горных ливней. Из-под куста выскочила и понеслась стремглав в сторону щетинистая гиена, отвратительно подбрасывая короткие задние ноги, похожие на букву «Х». Стало совсем темно. Лошади шли чутьем, одна за другой; в темноте они то поднимались, то спускались, ныряя куда-то на неровной почве.
Поднявшись по откосу оврага, кони остановились. Где-то впереди мерцал огонек. Он то пропадал, то снова загорался, едва заметный и тусклый. Где огонек в степи, там и люди, и вода в закопченных чайниках, и отдых, и указание ближайшей тропы…
3. Женщина в золотой тиаре
Мы подъезжали к арабским шатрам. Оранжевый огонек метался среди черной мглы, облизывая большой котел, и отблески красного света прыгали по косым полотнищам темных палаток, припавших к земле, словно крылья летучей мыши. Несколько женских фигур двигались около костра, поминутно закрывая его пламя.
Огромные мохнатые собаки бросились под ноги нашим вздыбившимся коням. С хриплым давящимся лаем они прыгали, как дьяволы, перед нами. Фигуры встрепенулись, забегали, закричали по-персидски:
— Зачем вы приехали сюда? Здесь только одни женщины! Что вам надо?..
Кони подлетели к самому костру. Женщины в полосатых халатах, малиновые от огня, пронзительно кричали, хватая с земли камни. Из мрака вынырнул старик в чалме, с длинной седой бородой. Из-под руки он пристально посмотрел на нас и закашлялся.
— Теперь это у него долго будет! — Курбан безнадежно махнул рукой, словно он знал старика.
Наконец старик откашлялся и стал свирепо наступать на нас, требуя, чтобы мы уехали назад в степь.
— Это племя «машуджи», одних женщин. Кафирам-безбожникам[9] здесь нечего делать! Видите, как они вас боятся!..
Курбан, наклонившись с седла, дружески тронул старика за плечо. Тот отскочил, словно обожженный, и начал старательно очищать место, которого коснулась рука нечестивого.
— Он нас не любит, — засмеялся Курбан, — потому что мы вам служим, а вы Магомета не признаете. Значит, мы все тоже кафиры!