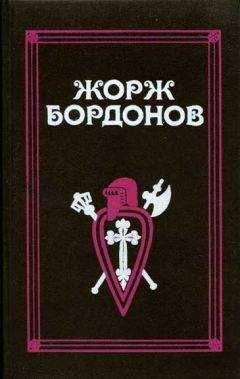Лет десять назад в потоке новых изданий промелькнула практически не замеченная критикой книга Ж. Бордонова «Мольер», сочетавшая увлекательность хорошего исторического романа и научную глубину монографии. Но издательство, выпустившее книгу, ни словом не обмолвилось, кто ее автор — писатель, ученый, из какой страны родом? И вот лишь теперь российский читатель получает возможность узнать, что книга о Мольере — не одинокий «остров в океане», а всего лишь часть целого творческого материка Жоржа Бордонова, причем материка, давно открытого всему читающему миру, но почти неизвестного нашим любителям историко-приключенческой литературы.
Жорж Шарль Альфонс Бруно Бордонов (G. Bordonove) родился во Франции 25 мая 1920 года; закончил факультеты филологии и права университета в г. Пуатье. Он — глубокий знаток истории, живописи, музыки. Первые исторические романы написал в начале пятидесятых годов и с тех пор выпустил их более десятка. Кроме того, его перу принадлежит ряд исторических исследований — таких, например, как двухтомная история Парижа, книга о франко-английском соперничестве, начиная со средних веков и до второй мировой войны.
Перед Вами, уважаемый читатель, первые переводы на русский язык исторических романов французского писателя и ученого. В многовековых пластах истории Ж. Бордонов чувствует себя удивительно свободно. Памятники культуры служат для него источником, из которого он черпает сюжеты для своих произведений, точные и яркие детали быта, помогающие угадывать правду характеров, поступков, страстей человеческих.
Впервые издавая на русском языке избранные историко-приключенческие произведения Ж. Бордонова, акционерное издательство «Прибой» открывает для российского читателя одного из интереснейших писателей Франции.
Для начала вообразите себе ветреную ноябрьскую ночь, деревенский дом и ребенка, лежащего на своей железной кровати. Дом так стар, так затерян в пространстве и во времени, что освещение здесь составляют лишь керосиновые лампы, и их оранжевые язычки покрывают сажей стеклянные трубки. Этот свет, колеблющийся на скатерти с бахромой, на краешке кровати, выхватывает из мрака несколько лиц, явившихся «по случаю», падает на их короткие прически и поблескивает стеклами очков одного из тех лекарей минувшей эпохи, которые соглашались в любое время года, днем или ночью, отправиться в сельскую местность на невообразимо старых авто, стреляющих искрами, или даже в двуколках.
Доктор закрывал свою огромную дорожную сумку из кожи, бормоча себе в бороду какие-то слова вежливости и сочувствия. По той натянутости, которая слышалась в его голосе, по суетливости, с которой он прощался, чувствовалось, как тяжело ему было произнести приговор и как его изводило собственное бессилие, невозможность хоть чем-то помочь. Ребенок «отходил», выражаясь меланхолическим языком провинции, это был только вопрос времени — часов, а может, даже и минут. Он дышал прерывисто, и зеркало, которое подносили к его рту, запотевало едва заметно. Это все из-за проклятой прививки и грязной иглы! Словом, ребенок умирал, лежа в темной комнате, мучимый лихорадкой и какой-то, тогда еще неизлечимой, неизвестной болезнью. Вокруг него эти лица, лица старательно вздыхавших соседей и соседок, теперь уже позабытые, а снаружи, над ветхой кровлей, за растрепанными бурной ночью стропилами, бушевали великие хоры природы, грохот которых утихал лишь с зарей. Он больше не чувствовал боли. Он не слышал теперь ничего, кроме этого воя и свиста, доносящихся с небес. Его детская душа уже начала блуждать по округе, среди прозрачных и колючих кустов.
Потом ребенок закрыл глаза. Соседи решили, что он перестал дышать, и один из них сказал:
— Все!
Но какая-то полная женщина закричала, словно разъяренный или раненый зверь, вытащила его из влажных простынок, взяла на руки, прижала к груди, словно хотела укрыть своим огромным телом, сообщить ему тепло своей крови, биение собственных артерий. Это было безумие! Но никто не смел помешать ей: все было кончено, и этот ребенок был ее сыном. От каких варварских верований, от какой неукротимой и нежной магии прошедших веков родился этот отчаянный жест? Женщина и сама этого не знала, но ее тепло согрело остывающее тело, ее воля оживила обессилевшее сердце, грудь ребенка вдруг поднялась, и его огромные, неподвижные глаза снова открылись…
Он не увидел ни черной шерстяной ткани, в которую упирался лбом, ни лампы, ни круга удивленных лиц. Он увидел море, оно поднималось из самой дали неведомого горизонта. Он увидел бегущие валы, гонимые ветром, обрушивающиеся и рассыпающиеся водопады, бесконечную равнину, словно белую пену, оттененную распаханными движущимися бороздами. Какой-то корабль несся под одним-единственным парусом, клонясь к воде. За кормой оставались дышащие огнем горы, город, погружающийся в бездну. Корабль приближался с головокружительной быстротой, уже были видны конская голова, украшающая нос, и металлические пластины, которыми были обшиты его борта. На корме в одиночестве стоял человек в шлеме и латах, неподвижный, словно статуя. Он, видно, был неподвластен силе страха. Наконец он прошелся по корме этого безумного судна, совсем близко, и ребенка потряс его пылающий взгляд.
…Таково мое первое воспоминание.
Как бы глубоко я ни погружался в ту темную пропасть, которая есть в душе всякого человека, я встречаю там этого неизвестного странника в шлеме и латах.
Много лет спустя, впервые оказавшись у моря, я увидел ту же странную картину. Из-за какой-то неисправности в машине мы приехали в гостиницу только под вечер. Тотчас же я побежал к берегу. Море оказалось огромным и темно-зеленым существом, оно лизало песок, оно пребывало в постоянном движении, простиралось до бесконечности, до самого края заходящего солнца. Опускающаяся ночь перекрашивала облака. Птицы, названий которых я не знал, проносились над гребнями волн, почти касаясь их, и кричали скрипучими голосами. Вечерний бриз шуршал в ветвях кустарника, который покрывал дюну, словно взъерошенная шевелюра. По какой-то причуде этого умирающего света горы, охваченные огнем, качнулись на краю горизонта. Кровли, крепостные стены и купола городских храмов сверкнули перед тем, как их затопила кипящая вода. Корабли с высокими форштевнями, украшенными лошадиными мордами, с корпусами, обшитыми красноватыми пластинами, растерянно метались, пытаясь спастись. Но и они исчезали один за другим, пропадали, как пропал город и огненные вершины. Мгновение спустя на поверхности моря остался лишь один корабль, спешивший к берегу и приближающийся очень быстро. На корме его стоял воин в латах и шлеме. Взгляд его был решителен и одновременно печален, непреклонен и, однако ж, исполнен мрачной необъяснимой тоски.
Потом, уже в лицее, раскрыв перевод Платона и впервые узнав это чудесное название «Атлантида», прочитав описание ее столицы и страшный рассказ о ее падении, в какой-то миг я ощутил, что забытое видение снова захлестнуло меня. Я увидел вместо черных букв, испестривших страницу, знаменитый город с Золотыми воротами, зажатый грохочущими и испускающими дым вершинами, тройное кольцо крепостных стен, каналы, порт, утыканный мачтами и изогнутыми форштевнями, набережные, застроенные складами и богатыми дворцами, заполненные грузчиками, моряками, солдатами, торговцами… Затем все это поглотила бездна, оставив на поверхности только бегущую флотилию, из которой спаслось лишь одно судно, уносящее единственного путника, облаченного в доспехи.
С тех пор всем стало понятно, что Атлантида почти никогда не ослабляла надо мной своих чар, занимая полностью мои мысли.
Мое стремление оживить незавершенную и смутную картину знанием истины было призвано поддержать вдохновение, всякий раз охватывавшее меня при этом видении, вновь и вновь возрождавшееся при виде моря. То, что было с самого начала лишь зыбким и неясным, стало для меня после прилежных штудий и внимательного изучения всего, что уже было написано об Атлантиде, достоверным. Не важно, что некоторые сочтут необходимым улыбнуться этому безапелляционному заявлению и недоуменно пожать плечами в ответ на столь решительно высказанное убеждение. Они принадлежат к той скудоумной породе людей, которая отказывалась поверить в существование Трои, «мифического» города, выдуманного слепым стариком Гомером, до тех пор, пока она не была открыта в точности такой, как он ее описывал. И зачем отрицать заранее существование Атлантиды, приписывая Платону заблуждения? В своем «Тимее» и «Критии» он ссылается на вполне серьезные источники: сохраненные саисскими жрецами архивы. Исчезновение документов ничего не опровергает.