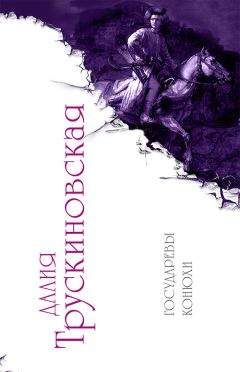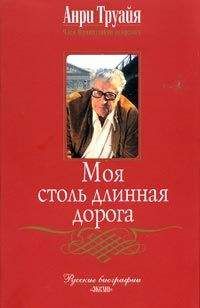Анри Труайя
Марья Карповна
Как только карета остановилась, Алексей Иванович Качалов распахнул дверцу и, не дожидаясь, пока лакей подбежит и спустит лестничку, ловко спрыгнул на землю. Во дворе почтовой станции царило оживление, сновали туда-сюда конюхи, распрягая и уводя лошадей. Он заметил поджидавшего приезжих Льва: тот приветливо заулыбался, размахивая руками. Присутствие брата удивило Алексея Ивановича – как правило, Лев не утруждал себя тем, чтобы встречать эту деревенскую, даже без рессор, колымагу по прибытии. Мать довольствовалась тем, что присылала коляску с кучером Лукой на козлах, он и доставлял путешественника до поместья, расположенного едва ли в четырех верстах от станции. Тот факт, что Левушка лишний раз сдвинулся с места, утвердил Алексея в мысли о необычайной значимости нынешнего его приезда в Горбатово. Впрочем, если Марья Карповна сочла возможным обратиться к начальнику секретариата Министерства иностранных дел с прошением о внеурочном отпуске для своего старшего сына, значит, по ее мнению, ему просто необходимо было сейчас приехать, и заменить его тут некому. Мать, конечно, живет в провинции, в глуши, зато – благодаря родственникам – имеет связи не только в правительстве, но и при дворе. Правда, она пользуется этими связями лишь тогда, когда оснований для этого более чем достаточно. А сам Алексей выполняет в министерстве столь неопределенные функции, что его отсутствие – пусть оно продолжается даже целых два месяца – никак не способно повлиять на нормальный ход дел. Но каким же счастливым он себя чувствовал в Санкт-Петербурге – среди этой суеты, разговоров, интриг, в городе, где что ни шаг – то зрелище! И перспектива провести несколько недель в деревне в самом начале лета 1856 года заранее нагоняла на него глубочайшую тоску.
Лев, переваливаясь с ноги на ногу, лениво двинулся к брату. На этом низеньком, пухлявом блондине только что не лопался голубой сюртук с перламутровыми пуговицами. Жилет – тоже голубой, но в белую полоску – был обильно усеян пятнами. Желтые нанковые брюки неопрятно отвисали на коленях. Нерасчесанные бачки окружали щеки рыжеватым пуховым ореолом. Алексей обнял брата с поистине братским отвращением.
Вокруг них по двору носились мальчишки, поднимая серую пыль, пахнущую навозом и овсом. Из кузницы доносился металлический звон, молот с грохотом опускался на наковальню, там подковывали лошадей. Собаки вертелись под ногами изможденных, разбитых кляч, заливаясь отчаянным лаем. Какая-то баба тащила ведро с водой из колодца. Несколько осоловевших от путешествия пассажиров вышли из почтовой кареты и, сбившись кучкой, направились к трактиру. Алексей вежливо поклонился даме, которая всю дорогу сидела в карете рядом с ним, а теперь удалялась, держа за руку маленькую девочку. Затем, повернувшись ко Льву, спросил:
– Ну как дела в Горбатове? Все в порядке?
– Да, у нас все отлично. Маменька ждет тебя. Не слишком утомился в дороге?
Голос у младшего, в общем-то, приятный, сладковатый, пусть и постоянно окрашенный легкой хрипотцой, вот только говорить с ним решительно не о чем: с самого нежного возраста беседы братьев сводились лишь к обмену банальностями.
Они сели в коляску. Лука погрузил чемоданы, щелкнул языком – и гнедая лошадка зацокала копытами. Марья Карповна признавала в своей конюшне только гнедых лошадей, потому все узнавали здесь ее упряжки еще издалека.
Притиснутый в узкой коляске к брату, Алексей продолжал раздумывать над тем, что за причина побудила мать так срочно вызвать его в имение. Правда, он написал ей в прошлом месяце – и уже в который раз! – о том, что просит разделить часть принадлежащих ей земель между двумя сыновьями. Может быть, она, наконец, решилась сделать дарственную запись, как он предложил, и для того-то и пригласила его немедленно приехать, чтобы уладить все формальности? Впрочем, Левушка должен знать – невозможно себе представить, чтобы, живя с матерью рядом, он был не в курсе дела… Но этот притворщик умеет держать язык за зубами… Ладно! Попытка не пытка! «Чего тянуть кота за хвост!» – подумал Алексей и решительно прервал излияния брата:
– Почему матушка вдруг захотела со мной повидаться?
Лоснящаяся, словно маслом намазанная физиономия Льва расплылась в любезнейшей улыбке:
– Соскучилась по тебе, братец!
– Слушай, не болтай глупостей! Ты прекрасно знаешь, что я ей писал, что просил разделить между нами…
– Ничего такого не знаю, – оборвал его Лев.
– Что, разве она тебе не говорила?
Толстяк раздосадованно поморщился, похлопал ресницами, затем, после минутного колебания, неохотно признался:
– Говорила.
– Ну, и что же она тебе говорила?
– Что ты, как всегда, создаешь ей лишние затруднения…
– И все?
– Все.
– Не сказала, например, что намерена составить такой документ… подписать такую дарственную, которая позволила бы нам с тобой жить на доходы с поместья, впрямую от Марьи Карповны не завися?
– Нет.
– Ей достаточно было бы сделать дарственные записи – на твое имя и на мое… Передала бы нам часть земель – несколько деревень, скажем, Степаново, Петровку, Красное… и поля, что вокруг них, конечно… Это, в общем-то, ненамного уменьшило бы ее собственные наследственные владения и доходы от них, а мы бы тогда ни в чем не нуждались.
– А ты в чем-то нуждаешься? – не без иронии спросил Лев.
– Представь себе, да!
– В отличие от меня!
Алексею надоела бессмысленность разговора, он даже разозлился: все впустую, как об стенку горох! Но подумал, что есть еще шанс, и продолжил.
– Послушай, – сказал он. – Мне кажется, что в нашем возрасте мы уже имеем право на некоторую независимость!
– Независимость? – пожал плечами младший брат. – Зачем она мне? Я бы и не знал, что с нею делать. – Он перешел на шепот, рассматривая вытянутые перед собой руки – все в перевязочках, как у младенца, – и поворачивая их ладонями наружу. – Пока маменька жива, дай Бог ей здоровья, не вижу никакой причины изменять положение вещей. Разумеется, если она сама примет какое-то решение, я повинуюсь. Потому что убежден: наш священный сыновний долг – во всем повиноваться маменьке.
Теперь он сложил губы так, что выражение лица стало важным и одновременно сокрушенным – просто образец христианского смирения, да и только! Алексей понял, что больше ни словечка не вытянет из этого изворотливого, будто угорь, и скользкого, будто слизень, типа, своего младшего братца. В двадцать три года Левушка оставался таким же опасливо любезным, таким же лишенным мускулов, лишенным нервов, как в те времена, когда был ребенком и мог часами задумчиво играть с мотками разноцветного шелка, тесно прижавшись к материнской юбке. Та вышивала, а малыш блуждал в созданном его грезами мире. Вот так и превратился в старичка – не выросши, не повзрослев. Зато Алексей дождаться не мог, когда освободится от опеки. Быть постоянно под надзором матери ему стало казаться невыносимым довольно рано, но только юношей он сумел добиться, чтобы Марья Карповна написала друзьям из Министерства иностранных дел, и в день, когда он – к тому времени ему пошел двадцать второй год! – выехал из Горбатова в Санкт-Петербург, ощущение у него было такое, словно ему сняли повязку с глаз и вынули кляп изо рта. Когда же ему случалось возвратиться в родовое гнездо, на него нападали безотчетная угрюмость, дурное настроение, раздражительность, не мешая, однако, все-таки получать и некое ностальгическое удовольствие.
Сейчас деревенский пейзаж в окрестностях Тулы успокаивал величественным однообразием открывающегося взгляду простора. Коляска ехала среди возделанных полей и лугов, травы чуть колыхались, по небесной лазури время от времени проплывали мелкие белые облачка… Далекая линия горизонта казалась бы скучной, если бы не прерывалась возникающими порой на пути купами березок с трепещущей листвой. Потревоженные скрипом колес, целыми стаями взмывали в воздух жаворонки и носились с криком над нивами с еще зеленой рожью…
Солнце грело так жарко, что Алексею пришлось снять пиджак и расстегнуть ворот сорочки. Принаряженный Левушка весь взмок, его одолевали слепни, иногда ему удавалось прихлопнуть одного из них на собственной щеке. Со спины было видно, что у кучера под мышками образовались темные круги от пропитавшего красную рубаху пота. Время в сознании Алексея дало трещину – так ломается ветка сухого дерева: ему вдруг стало не двадцать пять лет, а двенадцать… может быть, и десять… Он возвращается после прогулки по лесу с братом; матушка ждет их, сидя в саду у столика, на котором сияет всеми боками самовар… Поцеловав маменькину ручку, каждый из них получает право на бутерброд с медом…
Алексей не помнил своего отца, умершего от чахотки вскорости после рождения первенца, знал только, что Иван Сергеевич Качалов служил в армии и добровольно подал в отставку ради того, чтобы жениться на Марье Карповне, которая на всю Тульскую губернию славилась в равной степени как богатством, так и бескомпромиссностью, цельностью характера. Она была постарше мужа и даже после свадьбы никому не позволяла подменить себя в управлении поместьем. Иван Сергеевич жил в ее доме скорее как почетный гость, чем в качестве полноправного хозяина. Впрочем, вполне возможно, его это устраивало: о нем говорили, что был большим любителем светских вечеров, карт и охоты. Во всяком случае, на портрете, украшавшем гостиную, отец действительно держал в руках ружье, на нем был и ягдташ, а у ног, обутых в охотничьи сапоги, застыла собака. Осталась после Ивана Сергеевича и целая коллекция курительных трубок – трубки эти и сейчас хранятся засунутыми в отверстия специальной полочки. Марья Карповна лишь иногда сквозь зубы цедила, что Алексей очень похож на отца, и тон при этом у нее был то ли холодный, то ли недовольный, но обычно избегала разговоров о покойном муже. Наверное, он успел разочаровать супругу за то недолгое время, что они пробыли вместе. Хотя… хотя Алексей порою задумывался, а способна ли его матушка вообще любить кого бы то ни было.