Бурлящей крови напор поставил башню стоймя…
У.Б. Йейтс
Могучий Линкольн пал
От рук жидов проклятых —
Нам памятно, пока не смыто временем.
Но и вовек пусть будет не забыто
Греховным нашим племенем,
…..
Д. Чосер
1
Сквозь стянутое крестовиной окно своей комнаты над конюшней в кирпичном заводе Яков Бок увидел, как люди в длинных пальто бегут куда-то такой ранью, и все в одну сторону. Вейз мир,[1] подумал расстроенный Яков, что-то там у них такое стряслось. Русские, сходясь по весеннему снегу с улиц вокруг кладбища, кто поврозь, кто гурьбой, торопились к пещерам в низине, и кое-кто даже бегом бежал прямо по слякотной мостовой. Яков поскорей припрятал жестянку, в которой копил серебряные рубли, и выскочил во двор узнать, что случилось. Спросил у Прошки, десятника, он околачивался возле печей, — но Прошко только сплюнул и ничего не ответил. Яков сошел со двора, и там тощая, вся закутанная, покрытая черной шалью баба ему сказала, что недалеко нашли мертвое тело ребеночка, «Где? — спросил Яков. — Сколько ребеночку?» Но она ответила, что знать не знает, и сразу ушла. А назавтра «Киевлянин» сообщил, что в сырой пещере в низине, что не больше полутора верст от кирпичного завода, нашли убитого русского мальчика, Женю Голова, нашли его мальчики постарше, оба пятнадцати лет, Зазимир Селиванов и Иван Шестинский. Женя уже больше недели как умер, тело его, сплошь в колотых ранах, все побелело от потери крови. После похорон на кладбище, совсем рядом с кирпичным заводом, Рихтер, один возчик, принес стопку прокламаций, обвинявших евреев в этом убийстве. Напечатаны они были, Яков понял, разглядев одну прокламацию, в печатнях Черной Сотни. На первом листе была их эмблема — двуглавый орел Российской Империя, а под орлом подпись: «Бей жидов, спасай Россию!» В тот вечер у себя в комнате Яков читал ошарашенно, что всю кровь из мальчика евреи выпустили с религиозными целями, чтобы потом собрать и отдать в синагогу для приготовления пасхальной мацы. Смешно, да, но он испугался. Вскочил, сел, снова вскочил. Подошел к окну, вернулся, опять схватил газету. Он из-за того беспокоился, что кирпичный завод, на котором он работал, был в Лукьяновском околотке, где евреям жить запрещалось. А он уже несколько месяцев тут работал, под чужим именем и без вида на жительство. И он боялся погрома, которым грозила газета. Его родного отца убили, когда Якову года не было, — не то чтобы настоящий погром, так, несуразица: двое пьяных солдат сговорились пальнуть в первых трех евреев, какие им встретятся, а отец Якова оказался вторым. Зато сын пережил погром — еще школьником, трехдневный налет казаков. На третье утро, когда еще дымились дома и вместе с несколькими другими детьми его вывели из погреба, где их прятали, он увидел: чернобородый еврей с белой сосиской во рту лежит на груде кровавых перьев, и крестьянский хряк отгрызает ему руку.
2
Пять месяцев тому назад, в погожую пятницу в начале ноября, когда первый снег еще не выпал на штетл,[2] тесть Якова, суматошный оборвыш, тощий, в чем душа держится, явился со своей клячей, прямо-таки одром, и шаткой телегой. Они сидели в неприютном холодном доме — он пришел в упадок через два месяца, как бежала Рейзл, неверная жена, — и пили вместе последний стакан чая. Шмуэл — далеко за шестьдесят; с всклокоченной бородой и слезящимися глазами, весь в глубоких морщинах — запустил руку в карман лапсердака, достал желтый оглодок сахара и предложил Якову, но тот затряс головой. Разносчик, меняла, сам доченькино приданое, больше он ничего за ней не мог дать — зато он давал советы, оказывал услуги, когда случится, — всасывал чай сквозь сахар, а зять пил свой неслащеным. Было горько, и он клял свою судьбу. Время от времени старик рассуждал о жизни, никого не осуждая, а то задавал безобидный вопрос, но Яков отмалчивался или что-то коротко буркал в ответ.
Высосав полстакана, Шмуэл вздохнул и сказал:
— Не так уж необходимо быть пророком, чтобы понять, что ты обвиняешь меня за дочь мою Рейзл.
Он говорил печально, сидя в жесткой шляпе, которую нашел на свалке в соседнем местечке. Когда он потел, она прилипала ко лбу, но, как человек верующий, он смотрел на это спокойно. Еще на нем был латаный теплый кафтан, из которого вылезали худые цевки. И чересчур большие туфли, не сапоги, и он таскал их повсюду.
— Кто-нибудь что-то вам говорил? Вы сами себя осуждаете, что воспитали курву.
Шмуэл без единого слова вынул грязный синий платок и заплакал.
— Но почему, ты уж меня извини, ты не спал с ней несколько месяцев? Кто так обращается со своей женой?
— Всего несколько недель, давайте уточним, но как долго может человек спать с бесплодной женщиной? Я устал стараться.
— И почему ты не пошел к ребе, когда я тебя умолял?
— Пусть он не вмешивается в мои дела, как и я к нему не лезу. Если разобраться, он невежественный человек.
— Милости — вот чего тебе всегда не хватало, — сказал тесть.
Яков поднялся в бешенстве.
— Вы мне лучше не рассказывайте про милость! Что я видел всю свою жизнь? Что мог я отдать? Я рожден сиротой — мать моя умерла через десять минут, и что постигло моего бедного отца, вы знаете сами. Если кто и говорил над ними Кадиш,[3] то только не я, пока не прошли годы. Если они дожидались у врат небесных, то долго пришлось им ждать, а возможно, они ждут до сих пор. Все свое несчастное детство я жил в поганом сиротском приюте, если вы это называете жизнью. И во сне я не имел покоя. Разве я знаю Тору, еще меньше я знаю Талмуд, хотя я выучил древнееврейский — у меня слух на языки. Псалмы как-никак я выучил. Меня учили ремеслу и к нему приспособили, едва мне исполнилось десять, — нет, не то чтобы я жалею. И я работаю — назовем это работой — своими руками, и кое-кто считает меня плебеем, хотя, говоря по правде, редкий человек понимает; кто плебей, кто нет. Вы приглядитесь получше к тем, кто дерет нос. Висковер, этот ногид,[4] — в моих глазах он плебей. Все, что есть у него, — рубли, и едва он откроет рот, слышно, как они звякают. Я много чего освоил самостоятельно, еще перед тем как пошел в армию, выучился приличному русскому, куда лучше того, какого мы набираемся от крестьян. Все, что я знаю, пусть это немного, я выучил сам — кое-что из истории и географии, и по арифметике, прочел несколько книг Спинозы. Не то чтобы ах, но лучше, чем ничего.
— Хотя почти все это трефное,[5] я отдаю тебе должное… — сказал Шмуэл.
— Дайте договорить. Я землю ногтями рыл, чтобы выжитъ. Что могут делать люди без капитала? Что они могут, я тоже могу, но это не много. Я чиню, что поломано и разбито, — все, кроме сердца. В этом штетле все разлезается — кого будет беспокоить, что крыша течет, если можно подсматривать в прорехи за Б-гом? И кто может заплатить за починку, если даже, предположим, кто-то хочет — но никто ведь не хочет. А кто и хочет, так я чаще всего работаю задаром. В лучшем случае за миску лапши. Здесь нет никаких возможностей у человека.
— Ты можешь мне не рассказывать про возможности…
— Меня призвали на Русско-японскую войну, но она кончилась, пока я еще до нее не доехал. Благодарение Б-гу. Потом я заболел, и меня прогнали. Кто будет цацкаться с астмой какого-то еврея? Благодарение Б-гу. Я вернулся и снова стал землю рыть поломанными ногтями. Как только увидел, начал обхаживать, обхаживал долго и, наконец, женился на вашей дочери, а она не могла забеременеть пять с половиной лет. Она не родила мне детей — кому я теперь посмею взглянуть в глаза? И вот наконец она убегает неведомо с кем, в кабаке его подцепила — гой, я уверен. Кажется, хватит — кто просит больше? Я не хочу, чтобы меня жалели, чтобы гадали, что же я сделал, чтобы заслужить такое проклятье. А я ничего не сделал. Это подарок. Я невиновен. Слишком долго я был сиротой. После тридцати лет на этом кладбище у меня за душой шестнадцать рублей, которые я получил, распродав все, что имел. И лучше уж вы мне не говорите про милость: что, скажите, я могу кому-нибудь дать?
— Милость может быть даже и у того, у кого ничего нет. Я не деньги имею в виду. Я имею в виду мою дочь.
— Ваша дочь не заслуживает ничего.
— Куда я ее не возил! Я всюду таскал ее от одного ребе к другому, и никто не мог обещать ей ребенка. Она и по врачам бегала, когда заведется рубль, и врачи ей то же самое говорили. У ребе это обходилось дешевле. И вот она убежала — да поможет ей Б-г. Он помогает и грешникам. Она согрешила — но она была в отчаянии.
— Пусть она бежит вечно.
— Она годами была тебе верной женой. Она делила с тобой все твои невзгоды.
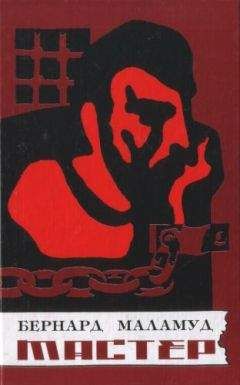


![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)