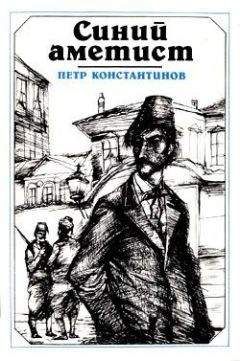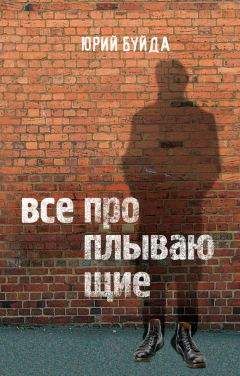Грозев уже подъехал совсем близко, когда случилось непредвиденное. Конь Апостолидиса, как видно, попал ногой в муравейник. Перепуганное животное поднялось на дыбы, задев при этом коня Игнасио. Уздечки их переплелись, что еще больше испугало коней, заставив их помчаться бешеным галопом.
Стараясь сохранить самообладание, София догнала ездоков и, заехав со стороны Игнасио, стала спокойно командовать:
— Натяни узду, легонько, левую узду…
Итальянец, как видно, ничего не слышал. Он с трудом удерживался в седле. Заметив Доксу, он попытался ухватиться за ее гриву и при этом, вероятно, попал пальцем в глаз лошади. Докса с перепугу стрелой понеслась вперед. Потеряв равновесие, Игнасио упал на землю, однако падение не было опасным, так как он тут же вскочил, отряхиваясь.
Грозев сразу же оценил всю опасность создавшейся ситуации. Натянув узду, он поскакал за Софией. Несмотря на бешеный галоп, дочь Аргиряди отлично держалась в седле. Лошадь, достигнув берега, резко повернула назад и влетела в кустарник, растущий над обрывом. Как раз там, внизу, находился желоб, соединенный с мельницей. Вода вытекала оттуда с большой скоростью, образовывая широкий омут.
Перебравшись на другую сторону желоба, Грозев подъехал к кустам и спешился. София выглядела бледной, но спокойной. Она ласково похлопывала Доксу по бокам, отыскивая глазами место, где могла бы вывести лошадь.
— Держите ее покрепче, — сказал Грозев, пробираясь сквозь кустарник.
— Не беспокойтесь, пожалуйста, — ответила девушка, — я сама выведу ее… Оставьте нас…
— Разве не видите, что вы на краю пропасти? — возразил Грозев. — Один неверный шаг, и вы полетите вниз вместе с конем.
— Оставьте нас… оставьте, — продолжала упрямо твердить София, дергая поводья, чтобы повернуть Доксу.
— Я бы вас оставил, — спокойно заявил Грозев, — если бы здесь не было так высоко и вода в реке не была бы так холодна…
Он осторожно взял поводья и повел лошадь подальше от обрыва. Когда они выбрались из кустарника, Грозев выпустил поводья из рук и заметил:
— Теперь вы и сама справитесь…
— Благодарю вас, — сдержанно сказала София. Лицо ее раскраснелось, возможно, потому, что она все-таки согласилась, чтобы Грозев помог ей.
Грозев вспрыгнул на своего коня и осмотрелся вокруг. Игнасио, прихрамывая, брел к имению, продолжая отряхивать пыль с одежды, Апостолидис едва виднелся вдали, там, где кончались рисовые поля. Он, как видно, застрял в иле и никак не мог выбраться.
Грозев погнал коня к нему.
— Поверните коня ко мне, — крикнул он издали, — и выводите его по берегу канала!
— Не могу, там скользко, — ответил Апостолидис, крепко сжав поводья и не смея обернуться.
— Тогда слезайте! — снова крикнул Грозев.
Грек ничего не ответил, а конь все больше и больше погружался в воду.
Грозев направил своего коня вдоль обрыва. Добравшись до суконщика, он повторил:
— Слезайте…
— Не могу, — с досадой ответил Апостолидис, — гетры зацепились за стремя…
Грозев помог ему освободить ногу и, взяв поводья, повел его коня к берегу.
На берегу их ждала София. Когда они поравнялись с ней, девушка молча повернула Доксу и поскакала к дому. Мужчины последовали за ней. Настроение у всех резко испортилось. Возле липовой аллеи догнали Игнасио. Виновник случившегося испуганно посмотрел на них.
— Боже мой, — пролепетал он, — у мамы волосы встанут дыбом, когда я расскажу ей обо всем.
София холодно взглянула на него и отвернулась.
— Действительно, — сказала она, — по всему видно, вы все еще не можете без материнской опеки.
Грозев присмотрелся к девушке. Губы у нее были плотно сжаты. Волосы от быстрой езды растрепались, непокорный локон упал на лоб. Явно, она была из тех женщин, которые готовы простить мужчине что угодно, кроме страха.
Обед проходил в столовой, окна которой выходили на зеленые пастбища. За столом становилось все более оживленно.
Аргиряди установил дома европейские порядки, которых придерживался даже тогда, когда звал в гости турок или им приходилось бывать у кого-то в гостях. По одну сторону от Софии сидел отец, по другую — Теохар Сарафоглу, а напротив — Амурат-бей и мютесариф Хамид-паша. Рядом с мютесарифом расположился хаджи Стойо. Между ним и его сыном усадили мисс Ани Пиэрс, сестру Эдвина Пиэрса. Молодая англичанка долго жила в Самокове, затем вернулась в Англию, где стала ревностной последовательницей Уильяма Гладстона.[8] В настоящее время она выполняла функции корреспондента некоторых лондонских либеральных газет.
С другой стороны Павла сидел уже успокоившийся Игнасио. А рядом с Амурат-беем — Апостолидис, затем шли Грозев, Жан Петри и помощник мютесарифа Айдер-бег. Напротив — старый домашний учитель Софии по французскому языку Лука Христофоров, страстный приверженец Ламартина и Республики. На самом краю стола, стараясь быть незаметной, ютилась Елени. Испытывая неудобство и страх, она десятки раз осматривала стол, проверяя, все ли в порядке.
Рядом с хозяином расположился Штилиян Палазов, тоже производитель сукна, изысканно одетый, улыбающийся, испытывающий удовольствие от встречи. Пышная трапеза, спокойные жесты и плавно текущий разговор свидетельствовали о европейском лоске и тонком вкусе хозяине.
Внимание хаджи Стойо было всецело поглощено вкусной едой, и он не обращал внимания на разговор, который велся за столом. Кончив жевать, он отер лоснящиеся губы, глядя исподлобья на сидящих напротив. Потом смачно отрыгнулся, прикрыв рот ладонью, и поднял бокал с вином.
— Пусть думают, что хотят, — сказал он, отпив глоток густого терпкого «мавруда», — но Россия не посмеет начать войну в такое время. Тут мне рассказали, что говорит тот, как его… Ну, англичанин…
— Дизраэли, — подсказал ему Апостолидис, сидевший напротив.
— Да, Дизраэли… Так вот, или, говорит, по Дунаю должен быть мир, или, если начнется война, Турция не будет одинока…
И хаджи Стойо покачал головой, многозначительно прищурив глаз.
— И все-таки, господа, — громко заявил Палазов, — поведение европейских стран будет определяться многими факторами — стратегическими, политическими, даже торговыми, если хотите знать. Здесь речь идет не о капризе или простой симпатии.
— И что ж, по-твоему, Англия будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия кроит шальвары, так, что ли? — язвительно спросил хаджи Стойо. — Только зря деньги проездил по Европам…
Палазов снисходительно усмехнулся.
— Вы меня не так поняли, уважаемый хаджи. Я хочу сказать, что в действиях великих сил зачастую есть моменты, которые нам не следует упускать из виду.
Штилиян Палазов пять-шесть лет назад объездил всю Европу и сразу сумел понять все преимущества машин перед человеческим трудом в деле накопления денег. По возвращении он открыл первую суконную фабрику в Пловдивской области, к югу от Дермендере. Однако все его усилия расширить производство, привлечь содружников, даже основать акционерное общество потерпели провал, и это сделало его мнительным и замкнутым.
— Оставь ты эти моменты, — махнул рукой хаджи Стойо. — Это тебе Австрия и Пруссия голову заморочили… Так-то. А все оттуда — от всяких там фабрик, машин, винтиков, все от них…
Хаджи Стойо упорно считал Палазова жуликом, который неизвестно как втерся к ним в доверие и совершал непонятные махинации с единственной целью: запустить руку в общий карман. Палазов почувствовал, как постепенно в душе растет досада и гнев на тупую ограниченность продавца зерна, и от того, что он поставил его, Палазова, в столь неловкое положение перед Амурат-беем. Однако он овладел собой и, желая поскорей закончить спор, сдержанно сказал:
— В отношении Англии наши с тобой мнения, хаджи, совпадают. Но хочу тебе сказать, что вся нелюбовь государств друг к другу объясняется недоброжелательством людей. Примерно, как и ты не похлопаешь меня по плечу, пока не удостоверишься, что у меня в кармане.
Амурат-бей слушал спорящих, опустив голову. Лицо его было серьезным и сосредоточенным. Услышав последние слова Палазова, он положил вилку.
— Я думаю, Англия нас поддержит, если на нас нападут, — начал он. — Но это отдельный вопрос. Должен вам сказать, что Англия у Порты на особом счету. Слова Дизраэли и кого бы то ни было не должны успокаивать нас, заставлять сидеть, сложа руки. Спокойствие государства всецело зависит от надежного войска.
Это было сказано спокойно и сухо, но с той интонацией, которую мог понять только посвященный. В серо-зеленых глазах бея читалось разумное предупреждение.
Когда бей закончил, в разговор вступил Жан Петри. Он обратился к присутствующим на чистейшем турецком языке, которым владел в совершенстве: