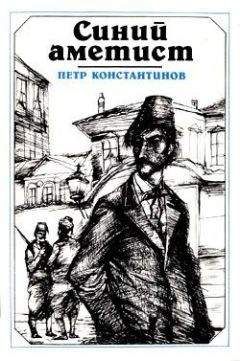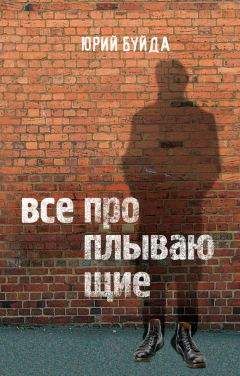Когда бей закончил, в разговор вступил Жан Петри. Он обратился к присутствующим на чистейшем турецком языке, которым владел в совершенстве:
— Я не знаю, откуда господину Данову стали известны слова Дизраэли, но мне кажется, что в последнее время премьер-министр Англии чрезвычайно скуп на подобного рода обещания.
— А я знаю, — сердито возразил хаджи Стойо, — что Англия всегда была на стороне Турции, но такой уж у нее принцип: мало говорить, больше дело делать…
Наступило неловкое молчание. Никому не хотелось спорить с хаджи Стойо.
Теохар Сарафоглу, высокий сухопарый мужчина лет шестидесяти, был членом Государственного совета и постоянно жил в Константинополе, где получал ренту. Педантичный до невозможности, он восхищался всем, чем было принято восхищаться, и отрицал все, что было объявлено порочным. Он отпил из своего бокала, аккуратно промокнул губы салфеткой, откашлялся и сказал, явно обращаясь к бею:
— Господа, отношение Англии к Османской империи всегда было ясным и недвусмысленным. Да другого и быть не может. Турция — единственная сила, способная удержать Проливы. А если Проливы в безопасности, то ничто не грозит и Суэцу. Разумеется, Англия всегда оказывала соответствующую материальную или моральную поддержку, когда это было необходимо. А турецкие государственные деятели, всячески старавшиеся завоевать и удержать дружбу Англии, всегда пользовались поддержкой самых широких общественных слоев.
— Да, поэтому Мидхат-паша был отправлен в ссылку, — на болгарском вставил Лука Христофоров, дружески подмигнув Жану Петри.
Сарафоглу нахмурился. Он очень не любил, когда его прерывали.
— Случай с Мидхат-пашой, милостивый государь, к делу не относится, — певуче продолжил он свои рассуждения на турецком языке. — Мидхат-паша нарушил параграф 113 Конституции, именно этим и объясняются события минувшего месяца. Если бы Мидхат-паша соблюдал все требования закона, объявленного милостью падишаха, все было бы по-другому.
— Прошу меня простить, господин Сарафоглу, — вмешалась мисс Пиэрс на английском, хотя прекрасно говорила по-турецки, — но мне кажется, что вы неправильно трактуете акт, имевший чисто формальное значение и целью которого было помешать делегатам Константинопольской конференции.[9]
— Почему вы так считаете, милейшая мисс Пиэрс? — обратился к англичанке Сарафоглу. В его голосе чувствовалось раздражение.
— Об этом знает каждый, — уверенно ответила англичанка.
— Мисс Пиэрс совершенно права, — поддержал ее Жан Петри. — Это была реплика в сцене, где было неизвестно, кто актеры, а кто — подставные лица.
— Конституция, — слегка повысил голос Сарафоглу, продолжая говорить на турецком, — это главный закон оттоманского государства, который создан не для Константинопольской конференции, а уходит корнями еще в Хаттихумаюн[10] и обеспечивает равноправие всем подданным империи. Никто не имеет права нарушить этот принцип, будь он хоть сам Мидхат-паша!
— Да, все эти принципы ваш народ испытал на собственной шкуре в прошлом году, — заметила мисс Пиэрс по-английски, бросив красноречивый взгляд на Сарафоглу.
— Мисс, — церемонно вставил Сарафоглу, — мы говорим об ошибках Мидхат-паши, вы же переносите вопрос в гораздо более широкую и, должен вам сказать, весьма наклонную плоскость.
Амурат понимал только то, что говорил Сарафоглу. Он никак не мог взять в толк, чем англичанка так прогневала члена его правительства. Твердый последователь реформаторских идей Мидхат-паши, он чрезвычайно болезненно пережил факт свержения великого везиря и сейчас слушал высокопарную речь Сарафоглу, прикрыв глаза. «Вот такие, как этот надутый индюк, все портят, — думал он. — А завтра, если только Мидхат вернется, он первым же встретит его хвалебственной речью».
Приветствуя в душе все новое и передовое в Европе, Амурат ненавидел многочисленных иностранцев, которые вот уже несколько десятилетий активно вмешивались в общественные и военные дела Турции. Он взглянул на своих соотечественников. Мютесариф и его помощник были всецело поглощены содержимым своих тарелок и не обращали никакого внимания на разговор. Амурат с досадой повернулся к Сарафоглу, который на турецком языке продолжал убеждать англичанку в том, что султанские реформы последних двадцати лет чрезвычайно демократичны. «Истинное несчастье Турции в том, что политикой у нас ведают чужеземцы», — с раздражением подумал бей…
— Хорошо, господин Сарафоглу, — ответила англичанка, — но я не понимаю, в чем эти реформы облагодетельствуют народ, а также не вижу, чтобы народ, пусть даже только правоверные, участвовал в этом демократичном, по вашим словам, управлении.
— Все очень просто, мисс Пиэрс, — усмехнулся Сарафоглу, — хорошее правление — это такое, которое заботится о народе, о его спокойствии и благоденствии, стремится установить порядок в государстве и мир — за его пределами.
— Ты скажи ей, Сарафоглу, — вмешался хаджи Стойо по-болгарски, — что если в государстве нет шума, газет и разврата, значит, все в порядке. Если она это поймет, остальное просто. Все тихо и спокойно… Так-то…
— Да, только в прошлом году, аккурат в это время, какая лихорадка нас колотила, — подал голос Христофоров и покачал головой.
— А ты, голь перекатная, молчи, — презрительно огрызнулся хаджи Стойо. — Лучше б долги свои подсчитал…
Сарафоглу поднял руку, как бы останавливая спорящих, и продолжал объяснять мисс Пиэрс:
— Вы хотите искусственно отделить в государстве мусульманское население от христиан. Но, позвольте, государственная политика дает им абсолютно одинаковые права, причем права гарантированные. Я считаю, что о подлинном правлении страной можно говорить тогда, когда оно обеспечивает народу мир и спокойствие. Именно таково правление султана. Так чего же вы еще хотите? Что другое называете демократией?
— Не можете убедить меня, господин Сарафоглу, что при отсутствии какой бы то ни было формы участия народа в управлении можно говорить о демократии, — ответила англичанка.
— Мисс Пиэрс, желание бога — это воля народа, а падишах его наместник на земле, — сказал Сарафоглу и отпил из бокала, как бы говоря, что этот сокрушительный удар означает конец спора. Потом многозначительно посмотрел на Амурата. Турок ответил ему холодным, ничего не выражающим взглядом.
— О, сколь бы набожным я ни был, — воскликнул Жан Петри, — подобными доводами трудно убедить. Европа девятнадцатого века — это Европа идей, господин Сарафоглу, прошу не забывать об этом. А эпидемия идей самая быстрая и самая страшная для человечества и предотвратить ее невозможно.
— Но мы все же постараемся предотвратить появление этих ваших идей у нас, господин Петри, — с усмешкой отпарировал Сарафоглу.
— А мне сдается, что человечеству нужны не идеи, а машины, — вступил в спор Палазов, раздраженно оставляя на тарелке вилку и нож… — Все несчастья прошлого года — как раз от идей, а не от чего-то другого… Идеи еще никогда никого не накормили.
— Вы не правы, господин Палазов, — спокойно возразил Жан Петри. — Идеи рождают машины, а машины, в свою очередь, новые идеи… Потом эти идеи могут уничтожить машины или создать новые… Зависит от обстановки… — И журналист хитро подмигнул фабриканту.
Палазов понял, что француз намекает на довольно частую поломку станков в Англии, но намек, адресованный лично ему, возмутил его.
— Ничего, — желчно засмеялся он. — Это поправимо. Вон, как у нас. В прошлом году шумели, стреляли, дым коромыслом… А как загорелась земля под ногами, сразу поутихли…
— Господин! — гневно выкрикнул Павел Данов, и глаза его вспыхнули негодованием. — Это не делает вам чести так говорить о своем народе!
— Цыц, — испуганно прошипел хаджи Стойо. — Заткнись, негодяй, ишь, распустил язык…
Палазов тоже залился краской, потому как сказанное не было в его стиле. Он покачал головой, как бы жалея, что сорвался, и вымолвил:
— Может, через год-другой и вы станете думать по-иному, юноша, — сказал он, улыбнувшись уголком губ. — Жизнь совсем не такая, какой кажется на первый взгляд.
Аргиряди, давно следивший за спорящими, решил перевести разговор на другое и спросил у Амурат-бея, нравится ли тому «мавруд». Бей молча кивнул, его лицо выражало удовольствие. По тону спора Амурат понял, что он не из приятных, но так как не мог уловить смысла произносимых фраз, сделал вид, что разговор его не интересует, сосредоточив внимание на темно-красной жидкости в бокале. Айдер-бег холодно посмотрел на Павла своими рыбьими глазами, задержав взгляд на юноше, но видя, что Амурат-бей не реагирует, вновь склонился над тарелкой.
Апостолидис, расстроенный утренним происшествием, наконец несколько оживился.