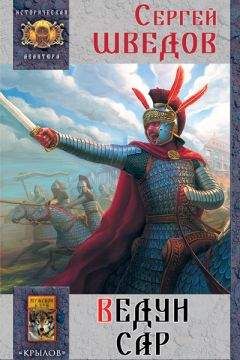…России необходима сильная царская власть, чтобы все законы государства блюлись неукоснительно. Только мудрая воля самодержца, опирающегося на преданных, благоразумных слуг монархии, способна ограждать крестьян от барского своеволия, а всех граждан от беззаконий, бесчинств, от недобрых воевод, от бессовестных судей. Только просвещенное самодержавие может принести России мир, благоденствие, истинное процветание наук и искусств… А чего достигли благородные, но безумные юноши, которые выводили полки на Сенатскую площадь? Они обрекли на гибель и себя, и своих злополучных солдат. И тем самым лишили отечество множества честных, самоотверженных сыновей, которые могли быть чрезвычайно полезны на разных поприщах… Этот безрассудный мятеж посеял во многих умах и сердцах недоверие к любому свободомыслию, к самым умеренным преобразованиям… И новый монарх теперь слушает уже не столько благоразумных, просвещенных советников, сколько раболепных, безоговорочно преданных слуг… Нет уж, никак не благодатным приливом запомнится 14-е декабря, а губительным ураганом, леденящей стужей…
Федор Петрович сочувствовал юношам, пылко рассуждавшим о свободе.
— О, я понимаю вас. Я помню хорошо, как было у нас, когда приходила французская армия. Я был отрок тринадцать-четырнадцать лет, я тоже кричал вив ля републик, аба ля тирана. Я тоже очень хотел эгалитэ, либертэ, фратернитэ. Но мой батюшка очень добрый, очень умный апотекарь и мой очень добрый учитель, очень умный прелат объясняли: «Ты есть наивный глупый юнош, ты просишь свобода, но свобода всегда была, везде есть, свободу нам дал Спаситель Христос. Каждый человек может свободно решать: хорошее дело он хочет делать или дурное, доброе или злое. И равенство всегда было и есть, самое главное равенство перед небом. Великий аристократ и маленький поселянин суть равные, если они добродетельны, а хороший работник есть перед Богом более высокий человек, чем плохой король. И братство всегда было. И всегда может быть; надо лишь помнить уроки Спасителя, Нагорную проповедь, послания Апостолов. Каждый христианин есть брат всем людям. И совсем не надо делать ребеллион нреволюцион, надо отдать кесарю кесарево и послушно уважать государство, ибо каждая власть от Бога; и каждый человек может свободно делать добро и понимать, что все люди суть равные, поелику все люди — смертные, все грешат, все могут спастись, если просить помощь Христа. И надо быть братом всем людям…».
Его выслушивали вежливо. Иногда кто-нибудь соглашался.
— Правду говорит Петрович, истинную правду. Бога мы забываем, оттого и все напасти. Случались и возражения.
— А я опасаюсь, почтеннейший доктор, что в таких рассуждениях Вы можете опасно приблизиться к учениям неких сект, произвольно толкующих Священное Писание. Могу лишь посоветовать Вам обратиться к тому священнослужителю, у которого исповедуетесь.
— Полноте, полноте стращать Федора Петровича, и не дворянское это дело — ереси обличать. А что он мятежников по-христиански жалеет — тоже нет греха. Заблудших овец и покарать, и пожалеть стоит.
— Это кто же овечки? Гнусные козлища они, дикие волки и вепри или вовсе бешеные псы… Таких истреблять безо всякой жалости… И ни к чему тут суемудрие, пустые слова. От них только вред. Покойный государь Павел Петрович вовсе запрещал писать и пропускать такие слова, как «либертэ», «эгалитэ», «нация», «революция». От мерзостных слов и поступки мерзкие проистекают.
— Скоропоспешно рассудить изволили, сударь. И Павла Петровича неуместно помянули. Его строгие запреты не столь уж спасительны были, его самого не уберегли. А жалеть и злейших преступников христианину не зазорно. Карай и жалей. Спаситель и разбойника пожалел. Мятеж преступен и карать за него следует сурово, но среди мятежников были не только злодеи, а действительно заблудшие, соблазненные и ослепленные юноши. И они достойны жалости. А тем паче их родители, их кровные. Ведь каких родов отпрыски там оказались…
— Да, немало славных российских фамилий оплакивают нынче безумцев. Граф Ростопчин давеча говорил: «Во Франции революцию учинила чернь. Сапожники добивались привилегий, хотели заменить аристокрацию. Намерение преступное, однако понятное. Рыба ищет, где глубже… А у нас революцию затеяли гвардейские офицеры — князья, графы, столбовые дворяне… Неужто они позавидовали сапожникам?»
Предстояла коронация нового царя в Кремле. Все департаменты, военные и штатские чиновники готовились тревожно и суетливо. На казарменных плацах муштровали солдат. До ночи не умолкали командные окрики, барабанная дробь, заунывные зовы горнов. Надрывались офицеры и капралы. Все знали: царь Николай Павлович строг по воинской части, не терпит и малых упущений.
Князь Голицын и его друзья не знали, как отнесется новый монарх к тем, кого жаловал его предшественник. После страшных декабрьских событий не станет ли он полагаться только на аракчеевцев-гатчинцев, на раболепных тупых солдафонов?.. Они и при покойном государе уже набирали силу…
Разноречивые слухи то вспыхивали, то угасали.
— Арестован Александр Грибоедов… Кто бы мог подумать, такой почтенный, истинно государственный ум. Должно быть, подбираются к Ермолову — говорят, мятежники прочили его на престол… Да нет, не в цари, а диктатором; вроде как у англичан был Кромвель, а во Франции Бонапарт… Пушкина привезли из ссылки в Петербург на допрос. Ведь почти все главные злодеи его друзья-приятели — Рылеев, Пущин, Кюхельбекер… Но, говорят, государь его простил, и Ермолова, и Грибоедова повелел не трогать.
— Вот где истинное великодушие. Государь даже извергов пожалел. Их по закону следовало на площади всенародно колесовать и четвертовать. А государь смилостивился — пятерых повесили в крепости, без шуму, а других — в Сибирь, в рудники. Кто менее повинен: дворян — в солдаты, а солдат — по зеленой улице, и потом всех на Кавказ: кровью отмывать грехи…
В эти смутные тревожные месяцы Голицыну было не до склок в «Медицинской конторе». Федор Петрович понимал это; он так же, как многие москвичи, опасался, не придется ли князю покинуть пост. И не желал докучать ему своими невзгодами. Летом 1826 года штадт-физикус подал в отставку.
За два года пребывания в этой должности он затратил немало собственных денег на лекарства для неимущих больных. Освободившись от беспокойной и бесплодной администраторской деятельности, он снова стал врачом и лечил не только тех, кто его приглашал или приходил к нему, навещал бедняков в больницах, ему уже не «подведомственных», и помогал молодым лекарям.
Никакие огорчения не могли ослабить доверие Федора Петровича к людям, не могли пошатнуть его веру в конечную справедливость и разумность человеческого существования. Он был убежден, что добрых людей на земле больше, чем злых, что правда обязательно одолеет неправду — пусть и не скоро, пусть даже не при нашей жизни… Не сомневался он и в том, что друзей и доброжелателей у него больше, чем противников и гонителей.
Князь Голицын остался генерал-губернатором и все так же ласково принимал Федора Петровича у себя.
Александр Александрович Арсеньев — предводитель московского дворянства — слыл властным гордецом, своевольным упрямцем, едва ли не самодуром, но славился хлебосольством, щедростью и ревнивой любовью к Москве. Сын известного военачальника, героя семилетней войны, он с юности начал военную карьеру; был уже лихим поручиком гвардии, получил награду из рук самой Екатерины, которой приглянулся молодецкой статью. Но не понравился Потемкину; и тот, хандривший с похмелья, прикрикнул на Арсеньева, дежурившего по штабу:
— Что это у вас шарф повязан сикось-накось? Неряха Вы, а не гвардии офицер…
Сдав дежурство, оскорбленный юноша в тот же час подал в отставку и уехал в свои подмосковные поместья, где почти двадцать лет жил безвыездно. В 1812 году он собрал, за свой счет вооружил и снарядил полк ополчения и сам командовал им в нескольких стычках. Более всего на свете он ненавидел узурпатора Наполеона — разорителя Москвы — и дворовых собак неизменно называл Наполеошками и Жезефинками.
После войны смыслом его жизни стало возрождение Москвы. Избранный предводителем дворянства, он тратил на строительство немалую часть личных средств, широко использовал дружеские и личные связи и свою неизрасходованную командирскую энергию. Он добился того, что засыпали, загнали в подземные трубы грязную речонку, протекающую у стен Кремля, и на ее месте разбили сад, наименованный Александровским. Он самолично руководил постройкой Большого театра. Заметив, что медленно накрывают крышу, а лето на исходе и дожди могут принести немало бед, он раз-другой выслушал объяснения-оправдания подрядчика, а потом велел привязать его тут же на незавершенной крыше к трубе и назначил сторожами своих егерей.