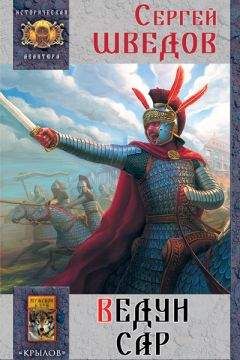Везде не хватало кроватей, белья, перевязочных средств, лекарств, дров, питания… Он утешал добросовестных врачей и фельдшеров, красноглазых от бессонниц, шатавшихся от усталости, укорял, усовещал нерадивых или отчаявшихся, наставлял, советовал, объяснял… И писал, писал, писал — донесения, жалобы, ходатайства, сметы, просьбы, мольбы… Многие бумаги сам же отвозил в городскую «Медицинскую контору», генерал-губернатору и гражданскому губернатору, военным и гражданским начальникам. Взывал к милосердию, просил о помощи деньгами, вещами, продуктами.
В первые же дни он убедился, что его предшественник уволен несправедливо; на него облыжно доносили одни потому, что он был слишком добросовестен, не хотел покрывать злоупотребления пройдох и безделье лентяев, а другие жаловались, что он недостаточно строг, не преследует лихоимцев и мошенников.
Федор Петрович сразу же написал обстоятельные письма губернатору и министру, а свое жалование штадт-физика ежемесячно отсылал предшественнику — ведь тот небогатый врач был незаслуженно лишен этого весьма для него существенного пособия.
Но у некоторых коллег беспокойного доктора и тем более у чиновников, которым были подведомственны больницы, все это вызывало сперва насмешливое недоумение, а затем и злобную неприязнь.
Медицинский инспектор Добронравов писал доносы и генерал-губернатору, и гражданскому губернатору, и санитарному попечителю Москвы, и петербургскому начальству. Он уверял их, что «лекарь Гааз находится не в здравом душевном состоянии», что его действия и распоряжения «безрассудны, вызывают лишь смущение служащих и больных». В кругу врачей и чиновников «Московской медицинской конторы» Добронравов и его подручные шептали, говорили, кричали, возмущались, что сей зазнавшийся иноземец мог достичь таких чинов и званий?! Он от этого уже умом помутился и досаждает порядочным людям дурацкими придирками и ханжескими нравоучениями.
Федору Петровичу сообщали о происках его недоброжелателей. Он написал «Медицинской конторе»: «Уже сколько лет, как посвятил я свои силы на служение страждущему человечеству России… и если через сие не приобрел некоторым образом права на усыновление, как предполагает господин инспектор, говоря, что я иноземец, то я буду весьма несчастлив».
Князь Голицын не дал бы в обиду Федора Петровича, своего приятеля и подопечного. Но для него самого наступили трудные времена. Внезапно скончался царь Александр I, который всегда покровительствовал независимому князю.
IV. Новый царь. Тревоги. Споры
…14 декабря в Петербурге восстали гвардейские полки — не хотели присягать новому императору Николаю. В Москве клубились небывалые, жуткие слухи. Одни говорили, что начинается смута, как двести лет назад при самозванцах. Гвардия хочет царем великого князя Константина, который в Польше наместником. Он там принял латинскую веру и все церкви отдаст ксендзам. Другие рассказывали, что в Петербурге, у дворца, палят из пушек; тысячи убитых, пожары хуже московского… Тайные заговорщики — все масоны; они бунтуют солдат и мужиков против царя и против дворянства, вздувают новую пугачевщину… Уже начались мятежи на Украине, где-то у Чернигова, скоро начнутся на Волге и на Дону, дойдут и до Москвы…
Старики напоминали о зловещих знамениях, о прорицаниях странников, старцев и юродивых, о курицах, кричавших петухом, о псах, воющих по ночам у Кремля. Говорили и нечто вовсе небывалое — будто царь Александр не помер, а тайно скрылся и в Петербург привезли пустой гроб. А царь ушел в монастырь замаливать грехи. Сколько людей засекли насмерть после бунтов в Семеновском полку и в солдатских поселениях Вот он и кается…
Даже наиболее осведомленные и просвещенные москвичи были возбуждены не меньше, чем растревоженные слухами обыватели.
Но иные успокаивали:
— Пустое! Гвардейские шалости, как не раз уж бывало. Они там в Петербурге привыкли бунтовать всякий раз, едва начиналось новое царствование… Стрелецкое наследство из Москвы увезли. Когда Анну Иоанновну верховники утеснить хотели, гвардия зашумела, пособила самодержице. А через десять лет те же гвардейцы ее дружка Бирона свергли, возвели Анну Леопольдовну и младенца Иоанна. Потом, чуть погодя, опять гвардия волновалась, чтоб Елизавета Петровна взошла на отцовский престол. И матушке Екатерине те же гвардейцы-шалуны пособляли, потому и отличала их наградами, льготами, почестями, не в пример другим войскам. Павел Петрович гвардию не жаловал, не прощал ей, что его батюшку обидели, строго третировал. Потому и прервались его дни безвременно… Гвардейцы всегда бунтовали. В Семеновском полку шесть лет назад какие безобразия учинили. Теперь снова куражиться начали, хотели быть первыми в царстве. Ну и просчитались, шельмы. Николай Павлович построже покойного братца. Он их сразу приструнил. Окропил картечью. А уж дальше судьи рассудят, кого сквозь строй — по зеленой улице да в могилку, — кого на цепь и в Сибирь…
— Подумать только, сыновья таких семейств: Трубецкой, Долгорукий, Муравьевы, Бестужевы, Лунин! Цвет аристократии, просвещенные заслуженные офицеры!!! Ведь недавно еще они сражались за отечество, за престол, доблестно сражались… И вдруг, извольте видеть, идут на мятеж, на разбой, на цареубийство…
— Вот уже не вдруг. Все это годами зрело, созревало. Тлетворная французская зараза. Якобинство… Либертинство… Набрались недоросли суемудрия из книжек, из газеток да в чужих краях. В походах да на постоях доглядывать некому было. Они и поддались нечистой силе. Они же не только на престол, на помазанника Божия посягнули. Они замахнулись на всю Россию, на все дворянство, на законы и порядки, установленные Божественным промыслом. Они ведь чего хотели? Того же самого, что и Емелька Пугачев и французские цареубийцы. Мужикам и всей черни полную волю — пей-гуляй, грабь и жги! А всех господ, все духовен-ство на фонари, на плаху, на каторгу… Вот-с о чем эти негодяи мечтали. А вы говорите, гвардейские шалости… Да за такое мало каторги. Четвертовать надо христопродавцев и анафематствовать всенародно, как Стеньку и Емельку…
— Все это пошлые бредни стародумов, российских азиатов-рабовладельцев. Им везде Пугачев мерещится. 14 декабря — пресветлейший день в истории нашего отечества. Докатился, наконец, и до нас великий прилив. Первые волны полвека назад поднялись за океаном, когда восстали американцы. Они разбили войска британского тирана, создали государство, подобное республикам Эллады и Рима; за ними последовали французы, разрушили Бастилию, сажали деревья свободы, утверждали власть разума и равенство всех граждан. Но Французскую республику погубили неистовства черни, безумие террористов и гений нового цезаря — Наполеона. И все же ни Наполеон, ни восстановление старой династии не могли уже отменить новых законов и гражданских прав — завоевании республиканцев. А волны свободы опять вздымались то в Греции, то в Италии, то в Испании. И докатились до нас. Поминать Стеньку и Емельку, может быть, стоит. Они предводители народных мятежей. Их тоже воодушевляли мечты о свободе, мечты о равенстве. Но от тех диких казачьих стихий до декабрьского восстания в Петербурге — путь такой же далекий, как от Жакерии и Фронды до Национального собрания и Конвента. Однако предшественниками Пестеля, Рылеева, Муравьевых были действительно не только иноземцы, не Риэго, не якобинцы, а прежде всего просвещенные соотечественники — Новиков и Радищев и все, кто еще при Екатерине помышлял о мудрых, справедливых законах, об отмене рабства на Руси, и позднее — друзья молодого царя Александра и Сперанский. Они тоже хотели отменить постыдное рабство земледельцев, учредить и в нашем обществе законы, установить подлинное гражданство, равные права всем сословиям. Но они были одинокие мудрецы и человеколюбцы, доверявшие свои мечтания только малому кругу собеседников, часто даже и не единомышленных. А тут десятки офицеров, прославленные военачальники, тысячи солдат на площади в сердце столицы… Пускай они потерпели жестокое поражение. Но это лишь начало. Петр Великий сперва был разбит шведами у Нарвы, а потом настали дни Полтавы и Гангута. Москва сгорела, завоеванная французами, но двух лет не прошло, и русские полки вступили в Париж… Кровь героев на декабрьском снегу в Петербурге пролилась не напрасно. Отлив сменится новым приливом, и тот уже будет более могучим и смоет все твердыни деспотизма.
Такие речи звучали реже и лишь в обществе близких людей, но и там они обычно встречали печальные или гневные возражения.
— Пустые мечтания! Пустые и опасные. Петербург — не Париж и уж никак не Америка… Впрочем, и там свободные граждане, кои, по-вашему, суть новейшие афиняне или квириты, владеют рабами. Американские рабы насильно привезены туда, похищены от родных краев. А у нас крепостное право сложилось веками на отечественной земле. Наше общество — единое живое тело; дворянство и крестьянство связаны между собой прочнейшими узами, как члены единого тела… Эти гвардейские лекари-костоломы хотели все рассечь, как некий гордиев узел. Р-раз, и свобода. А это означало бы всеобщее разорение и кровавые смуты, стократ губительнее пугачевщины. Нет уж, от такого увольте.