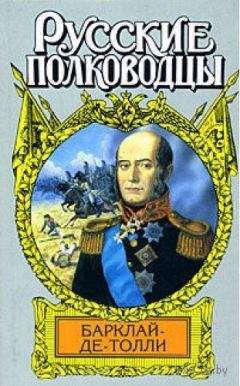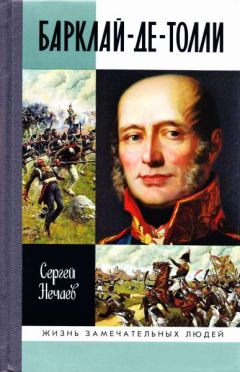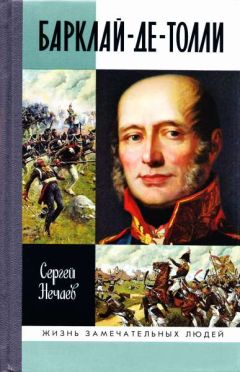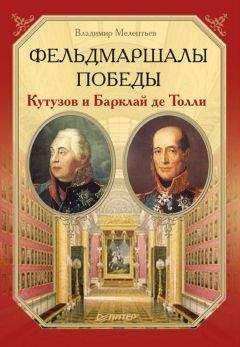Уходя из Царева Займища, русская армия шла уже далеко не столь быстро, как от Смоленска. Но как жестоко ни огрызалась она, французы ни на версту не отпускали арьергард Коновницына и Платова, не давая им ни минуты отдыха.
Кавалерия Мюрата шла за русским арьергардом, как кровожадная волчья стая за огрызающейся сворой окровавленных, озлобленных борзых. Девять дней — с 17 до 26 августа, когда армия ушла из Царева Займища и подошла к Бородино, — она пребывала в состоянии непрерывного боя, который навязывал ей Наполеон.
Положение дел напоминало «львиный марш» 27-й дивизии Неверовского, отступавшей 2 августа к Смоленску. Но тогда это была одна дивизия — теперь же по меньшей мере две. Причем марш Неверовского длился полдня, а Коновницын и Платов не выходили из-под огня девять суток, пройдя за это время всего 75 верст — по восемь с половиной верст в сутки. Бои шли и днем и ночью.
20 августа под Гжатском дивизия Коновницына вела бой тринадцать часов, отступив на семнадцать верст и переменив восемь позиций.
23 августа десятичасовой бой возле села Гриднево провели казаки Платова, переменив пять позиций.
Генеральное сражение становилось неизбежным, тем более что до Москвы оставалось чуть более ста верст.
Яростно отбиваясь от наседавшего авангарда Мюрата, русский арьергард не только пытался остановить наступление Великой армии, но и отыскать наконец ту позицию, где войска Платова и Коновницына смогли бы на деле показать: вот он, край земли русской, и, вцепившись в него мертвой хваткой, уподобиться древнерусскому богатырю Святогору, которого не мог сдвинуть даже Илья Муромец.
Оставив 18 августа Гжатск, армия вроде бы нашла такую позицию.
Кутузов сначала тоже посчитал ее пригодной для генерального сражения, тем более что возле Гжатска к главным силам подошел Милорадович с пятнадцатью тысячами пехоты и тысячью кавалеристов, не считая двадцати семи тысяч ополченцев, правда еще плохо обученных.
На следующий день, 19 августа, на позиции началось строительство укреплений. Вот здесь-то ратники-ополченцы и пригодились более прочих.
В этот день приказом Кутузова Беннигсен был назначен начальником Главного штаба, а полковник Кайсаров — дежурным генералом при главнокомандующем, причем было объявлено, что их приказы должны почитаться приказами самого главнокомандующего. Арьергард же подчинялся непосредственно Беннигсену.
Барклай был очень опечален произведенными назначениями, так как считал и Кайсарова, и особенно Беннигсена своими недоброжелателями и даже писал о последнем, что он «с самой Вильны питал против меня злобу по неудаче его происков для получения некоторого влияния на управление армией».
При осмотре позиции за Гжатском Беннигсен стал уверять Кутузова, что она негодна, так как напротив ее центра находится большой лес, в котором противник может скрытно производить все свои движения и приготовления к атаке.
Барклай, присутствовавший при этом разговоре, стал возражать, говоря, что до леса — дистанция не менее чем в полтора пушечных выстрела и что, предъявляя подобные резоны, не найдет он приличной позиции во всей России, и наконец спросил:
— Не известна ли вам, ваше высокопревосходительство, другая — удобнейшая?
— В путешествии моем между Гжатском и Можайском, — ответил Беннигсен, — заметил я оных несколько.
Кутузов сначала поддержал Барклая и вроде бы твердо решил сражаться именно здесь, но в ночь с 19-го на 20-е вдруг, по обыкновению, переменил решение и приказал отступать дальше.
19 августа от Барклая и Багратиона инженеры и офицеры-квартирмейстеры были переданы в распоряжение начальника Главного штаба, и вследствие этого приказы по инженерной и квартирмейстерской части нередко стали проходить непосредственно в дивизии и полки, минуя командующих армиями и даже корпусных командиров.
После трех длинных и опасных переходов утром 22 августа армия подошла к большому полю. В разных концах его лежало несколько деревень и село, в коем, определяя его значение, стояла церковь — непременная примета села, отличающая его от деревни.
2-я армия поравнялась с маленькой деревушкой Утицей, лежавшей на южном краю поля.
Багратион ехал стремя в стремя с Денисом Давыдовым.
— Ты говорил мне, Денис, что батюшка твой — можайский помещик? — спросил он своего попутчика.
— Нельзя было задать сей вопрос более кстати, ваше сиятельство, — улыбнулся белозубый, чернобородый малыш-гусар, и его азиатские глазки хитро сверкнули. — Вот, извольте поглядеть на север. — И Давыдов протянул в сторону хорошо видной отсюда церкви рукоять казацкой нагайки, с которой никогда не расставался. — Село это называется Бородино, и мы владеем им с помещиками Рудневыми, да и деревеньки, что вокруг, почитай, через одну то их, то наши. А храм зовется двояко: нижний — Сергия Радонежского, а верхний — Рождества Христова.
Богословскую тираду князь пропустил мимо ушей, зато спросил:
— Здесь вотчина ваша?
— Нет, ваше сиятельство. И земля, и деревеньки с мужиками, и часть села достались мне по маменьке моей — урожденной Щербининой, а до нее владели всем этим знаменитые вотчинники — Колычевы да Савеловы.
— Да, — сказал князь, — истовая Россия: Колычевы, Савеловы, Давыдовы. Ты ведь и графам Орловым и Уваровым, слышал я, тоже родня?
— Седьмая вода на киселе, ваше сиятельство, — смущенно ответил Денис.
— Да это я к тому, — не то объясняясь, не то оправдываясь, проговорил Багратион, — что к самому сердцу России подвели мы врага. И дальше нам отступать некуда. Чует мое сердце, что именно на этом поле, именно здесь станет наша армия для баталии генеральной — ведь до Москвы-то, почитай, два перехода.
— Сто восемь верст, ваше сиятельство.
— Сто восемь верст! — печально отозвался Багратион. — Куда уж дальше?!
Здесь автор просит у читателя прощения за небеллетристическое отступление, которое считает совершенно необходимым.
Почти за два века, прошедших со дня Бородина, во всех странах, чьи войска сошлись на поле этой великой брани, вышли тысячи работ, посвященных Бородинскому сражению. И так как в военно-исторических трудах содержатся мнения порой диаметрально противоположные и навязчиво преподносятся набившие оскомину, далекие от правды стереотипы и ставшие хрестоматийными ложные оценки, то автор считает долгом своим не оставить без внимания хотя бы наиболее примелькавшиеся из них, указывая по ходу изложения на те, кои более терпимы быть не могут.
К сожалению, отечественная историография Бородинского сражения грешила такими передержками сильнее, чем любая другая — французская, например, или же немецкая.
* * *
Кутузов решил остановиться здесь и готовиться к бою не только из-за того, что поле у Бородина было широко и просторно, но и потому, что оно располагалось между двумя Смоленскими дорогами: Старой — на юге и Новой — на севере.
Вся местность была сильно всхолмлена и пересечена множеством ручьев и речушек, главной из которых была река Колочь, имевшая высокий крутой восточный берег, удобно прикрывавший центр и большую часть правого фланга русской армии.
В центре поля лежала деревня Семеновская, севернее — село Бородино и деревенька Горки, на западе — деревня Шевардино, на юге — деревенька Утица.
Правый фланг русских позиций упирался в берег реки Москвы и деревню Маслово, левый — в Шевардино.
Передовым опорным пунктом — западным аванпостом бородинской позиции — стало Шевардино, возле которого спешно начали возводить редут.
Оценивая бородинскую позицию в целом, Кутузов писал Александру I за день до начала сражения: «Позиция, в которой я остановился при селе Бородине, в 12 верстах впереди Можайска, — одна из наилучших, такую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить посредством искусства.
Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, в таком случае имею большую надежду к победе, но ежели он, найдя мою позицию крепкою, маневрировать будет по дорогам, ведущим к Москве, тогда должен буду идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся».
Важнейшей из этих дорог была Новая Смоленская. К тому же она была короче и шире других (по ней могли идти по четыре повозки в ряд), поэтому Кутузов считал Новую Смоленскую дорогу важнейшим стратегическим путем к столице и защите ее придавал особое значение.
У Новой Смоленской дороги — на правом фланге — он и сосредоточил свои главные силы, поручив командование ими Барклаю, левым же флангом велено было командовать Багратиону.
Узнав, что Кутузов решил дать генеральное сражение, Барклай поехал осматривать правый фланг, где предстояло драться его семидесятипятитысячной армии, отправив вперед Ермолова и Толя. Санглена он попросил сопровождать его, а инженер-генералу Трусону приказал ехать к Курганной высоте.