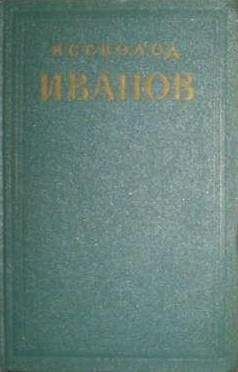— Ура-а-а!.. — нескончаемо охватывая его с боков, сверху, гремело и звенело вокруг. — За Ленина, ура-а!..
И сквозь крики, топот, звон он слышал молодой и задорный голос комбрига Моисеева:
— Товарищ Пархоменко! Почему вы впереди комбрига скачете?!
— После боя ори! — смеясь во весь рот, отвечал Пархоменко. — После боя считайся, кто был впереди, Моисеев.
На всем скаку оборачиваясь назад, крикнул:
— Смотри! Ты пример показал. Вторая-то… не побежала… стоит…
— Постоит и пойдет вперед.
Высоко подняв саблю, Пархоменко закричал мощным голосом, который сразу заглушил панскую команду, раздававшуюся на французско-польско-английском языке:
— Покажем пример, товарищи! Рубить панов до гроба!..
И тут-то панские кавалеристы разглядели то, что они боялись разглядеть. Они рассчитывали увидеть задыхающихся от слабости, изнуренных лошадей и еще более изнуренных, оборванных и бородатых «мужиков», бессмысленно размахивающих дубинами и казачьими пиками. Однако все оказалось по-другому. Не было ни пик, ни дубин, а было перед ними — стройное войско, великолепное, сгруппированное, воодушевленное, мчащееся — неуклонно и неустрашимо — по тому направлению, которое им указывали их командиры. Этот стройный порядок навел на врага ужас. Приказчики, купцы, коммивояжеры, помещики, кулаки, приехавшие из своих имений, магазинов, хуторов Польши, Франции или Америки, долго обучавшиеся военным эволюциям у английских, американских и французских инструкторов, замерли, — и «виват» застыло у них на губах.
— Ура-а-а!
— Ура-а-а!..
— Слышишь! — крикнул Пархоменко Моисееву. — Это уже вторая за нами двинулась.
Вторая бригада действительно остановилась, пришла в себя.
И вот она повернула коней.
И вот — двинулась на панов!
— Я ж сказал, наши ребята не любят отступать! — проговорил сам себе Пархоменко, ударяя на всем скаку саблей по голове нарядного и громко кричащего команду польского офицера. — Я второй верю! Она добьется своего.
— Совсем плохо отступает вторая! — сказал он, рубя наискось другого офицера, который устремил было на него свой длинный и тонкий палаш. — А куда второй отступать? — крикнул он, проткнув грудь и топча конем третьего офицера, наскочившего на него. — Куда нам отступать, товарищи? К буржуазной власти? Не видали мы такой дряни?
— Впе-е-ред, за-а Ленина-а!.. — неслось отовсюду.
Он привстал на стременах и оглядел поле боя.
Польская пехота, увидав, что кавалеристы генерала Корницкого бегут, повернула обратно и кинулась за реку Березанку. Пехоту преследовали конники Городовикова. Дивизия Пархоменко, добив остатки кавалерии Корницкого, присоединилась к Городовикову. К вечеру вся линия реки от деревни Березна до деревни Токаревка была в руках 14-й и 4-й дивизий. Однако разгромленные остатки наступавших белопольских войск спасли себя, уйдя за бетонированные, обтянутые колючей проволокой укрепления, перед которыми дивизии остановились. Враг не бросил укреплений, а прочно сидел за ними.
И тогда Пархоменко выстроил 2-ю бригаду.
Бойцы стояли на лугу, между кочек. Высокая болотная трава доходила им почти до плеч.
Пархоменко, сдвинув фуражку на затылок и обнажив влажный лоб, густым, нисколько не уставшим голосом, громко сказал:
— Что же это, товарищи из второй бригады? Что, у вас штаны такие хорошие, что понадобилось их сзаду показывать панам? Или домой торопитесь? Думаете, поцелуи вас ждут? Дворовый пес, и тот вас не поцелует, не говоря уже о ваших детях.
Молоденький, даже и теперь, после перенесенных усталостей и тревог, румяный нежный парень плакал. Слезы струились у него по щекам, попадая в рот, который этот простой и наивный деревенский парень, видимо, не мог закрыть от стыда и горя.
Пархоменко провел взглядом по рядам. У многих он увидал такие же, как у этого парня, страдающие и огорченные лица.
Пархоменко продолжал:
— Это — верно. Надо стыдиться трусости. Думать, что дело революции, которое мы с вами выполняем, сделает за нас кто-то другой, посмелее, — глупо. Глупо и постыдно! Партия и правительство послали нас спасать родину. Народ нас послал! Так что ж, думаете, народ нам простит трусость? Забудутся голод, холод, нужда, болезни, а вот трусость наша никогда не забудется, потому что только благодаря ей могут овладеть нами паны и буржуи! И вот почему я понимаю ваши слезы…
Конники переглянулись. Пархоменко продолжал:
— Горько и мне до слез, и не столько оттого, что вы струсили… трусость ваша была временная, и вы в битве избавились от нее… горько оттого, что мы не выполнили приказа…
Он помолчал, как бы вслушиваясь в то, проникают ли в сердца конников его слова, а затем продолжал:
…приказа партии не выполнили, приказа Сталина!
Слова звучали грозно и громко, во всю ширь поля.
Бригада, не шелохнувшись, слушала.
Солнце стояло уже высоко. Своими прямыми лучами оно освещало трупы людей и коней, в различных позах лежавших среди кустарников и кочек. Среди трупов ходили санитары и врачи в окровавленных халатах. Время от времени они останавливались и прислушивались к словам Пархоменко:
— С кем мы бьемся, конноармейцы? С польскими рабочими и крестьянами? Не с ними! Трудовому польскому народу не нужна наша Правобережная Украина и наша Белоруссия. Буржуазии она нужна! Зачем? Зачем нужна буржуазии наша красивая Украина, хорошая Белоруссия, дорогая наша Россия? А чтоб украсить их. Чем? Виселицами, конноармейцы! Виселицами, на которых будут висеть ваши братья, сестры, отцы, дети, все, кто борется с международным капитализмом за мир и за мирный труд! Смотрите туда, на эти бетонные укрепления, бойцы! Видите, мелькают там столбы и колышутся веревки? Это — виселицы…
Он наклонился, вытянув корпус вперед. Конь его нетерпеливо перебирал тонкими и мускулистыми ногами. Глядя в бледное, разгневанное лицо красноармейца, который недавно плакал, Пархоменко крикнул:
— И когда ты рубишь, боец, голову пану, ты рубишь всеобщую виселицу! Выполняя приказ о разгроме панов, мы выполняем мировую задачу. Поэтому все приказы высшего командования мы должны выполнять беспрекословно и полностью. А мы их выполняем частично. Да, мы разгромили дивизию пана Корницкого, но народный комиссар Сталин приказал нам свершить прорыв и именно нашей дивизии открыть этот прорыв. Мы не свершили этого прорыва!
Вороной конь встал на дыбы. Пархоменко крикнул так сильно, что, казалось, и белопольские войска за полем, в своих блиндированных и бетонированных укреплениях, услышали его:
— Но не плакать нужно, а — биться! Завтра каждому биться в десять раз лучше, чем сегодня! Помните это, как я это помню.
Пархоменко положил на седло голову и, вытянув тело на бурке, лежал у самого окна. За редкими смятыми кустами сирени горел костер, разложенный не столько для тепла, сколько для веселья. Коновод-татарин прохаживал вороного коня начдива. Время от времени лоснящиеся бока коня попадали на свет костра, и тогда видно было узкое лицо коновода и его неизменную улыбку, открывающую, казалось, множество блестящих белых зубов.
— … А вот у нас тоже было: на реке Маныч, хутор Весенний, — слышалось от костра, — шестая дивизия гонит белых, а мы думаем — это деникинцы наступают…
— И бежать?
— Мы? Угадал. Бежать! Верст десять так бежали, а вечером Буденный созывает нас и берет в оборот: «Вы, сукины дети, если не хотите защищать советскую власть и пролетарскую диктатуру, хоть бы шкурой своей дорожили. Сорвемся здесь, не разобьем Деникина, будем катиться аж до самой Москвы, прямо по шоссе, по камням, по ухабам, да не на коне, а на своей спине!»
— Ну, а вы? — спросил тот же тоненький голосок, спрашивавший ординарца раньше.
— Мы? Сознание тогда не было такое полное, как сейчас. Но все ж нам совестно. Начали драться. Теперь народ сознательней…
— Какое сравненье! — послышался голос Ламычева. Он шумно спрыгнул с коня, взял уголек, закурил. — Никакого сравненья! Прорыва не сделали, но и не отступили. Раз. А второе — каких коней нам, братцы, из резерва привели! Народ нажертвовал. С такими конями пинка пану дадим… А что, начдив здесь?
— Спит, кажись.
— Чего ж вы орете, черти, во все горло? — сказал Ламычев, на цыпочках направляясь в избу.
Он вошел, стараясь без скрипа закрыть за собой дверь, поискал по старой привычке икону, перекрестился в пустой угол и тогда только посмотрел на Пархоменко. Тот лежал, закрыв глаза, в пальцах у него торчала погасшая папироска. На краю стола, возле разорванной пополам пачки светлой пахучей махорки и клочков газетной бумаги, сидел Колоколов, положив на колени трехверстку. Поднимая к ней свечу, он вносил на карту какие-то отметки, иногда заглядывая в свою записную книжку.