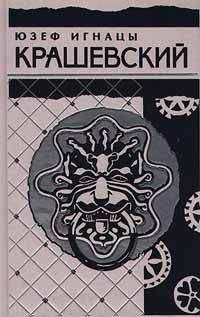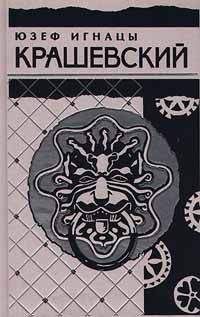руки.
– Так бы сразу нужно было сделать, – воскликнул он с силой, – идти на крепость, захватить её, только бы Святополк смягчился, увидев, что ему это безнаказанно не пройдёт. Лешек слишком добрый и слишком послушный, он прибавляет ему наглости. Мне также – о! Стократ было бы легче надеть доспехи и стены крушить, сражаться, даже умереть, чем тут бессильно сидеть, гнить и ничего не делать! Пойти бы нам!
Пойти! А потом хоть простить, но сначала дерзкую шею его согнуть.
Епископ спокойно слушал.
– Говори это пану, – ответил он, – потому что мне, духовному, поощрять войну не годиться, а есть люди, что надеждами Лешека вводят в заблуждения.
– И это, может быть, чтобы его только на время приобрести, – воскликнул Валигура, – который им на что-то нужен.
Епископ неспокойно поглядел на догорающую итальянскую лампу, фитиль которой шипел и брызгал. Было это знаком для Мшщуя, чтобы удалился. Поэтому в молчании, такой же грустный, как прибыл, он вышел.
На следующий день на дворе с утра было сильное оживление. Лешек во что бы то ни стало хотел привести к себе Тонконого с Одоничем. С того времени, как прибыли, они виделись только издалека, избегали друг друга. Когда один был у Лешека, другой у себя сидел, посылали проведать друг о друге, и Одонич не шёл, когда слышал о дяде, а Тонконогий – когда ему донесли, что племянник был у Лешека.
Сторонилсь они так друг друга несколько дней, пока по совету архиепископа решили обязательно свести их вместе и сломать первый лёд к примирению.
Когда об этом объявили Одоничу, он бросился как ошпаренный, выкрикивая и сплёвывая; он кричал, что это ни к чему, что уже однажды Генрих пытался их помирить, и всё-таки мир был хрупкий и не долго держался, что и тепершнему прогнозируется не лучше. Его с трудом уговорили.
– Зачем ты всё-таки сюда прибыл? – сказал князь Генрих, который был послом. – Есть что делать, нужно начать.
Одонич плевал и ничего не отвечал.
Тонконогий отказывался другим образом, наперёд обговаривая себе то, чтобы племянник, как младший, как более виновный и нападающий, первый просил прощения. Впрочем, он готов был вести переговоры, потому что был в худшем положении, ничего ему, кроме этого, не оставалось.
Наконец привлекли Тонконого, но в этот день слёг Одонич, и хотя Лешек посылал послов, не появился.
День окончился ничем. Назавтра сначала привели Одонича в большую избу и окружили его так, чтобы уйти не мог. Потом привели дядю, увидев которого в двери, племянник бросился, как разъярённый, не желая с ним быть под одной крышей.
Тогда присутствующий архиепископ так грозно и торжественно его отсчитал, что тот должен был смитриться.
Столько человек их уговаривали, что спокойно, хоть вдалеке друг от друга, они сели к одному столу. Сначала только мерили друг друга глазами, только когда Одонич напился мёду, начал брызгать словами, Тонконогий отвечал мало, но за него другие заступались.
Дошло до того, что Плвач, впав в гнев, вскочил с лавки с ножом в руке, и едва его обуздали. Под конец пиршества он также сам начал постепенно остывать, то был злой и безумный, а стал насмешливым и издевающимся.
Тонконогий сносил это терпеливо. Те, что сидели у стола, дивная вещь, хоть сердцем вовсе не были за Одонича, больше были склонны потакать ему, чем равнодушному Тонконогому, – хотя его дело было справедливей.
Лешек начал склонять к перемирию, но с первых слов показалась трудность; Тонконогий, который уже почти всё потерял, непомерно много требовал от племянника, а тот ничего дать не хотел.
– Что я завоевал, это моё! – кричал он. – Наследство за старшим сыном… по закону моё. Не дам ничего!
Лешек хотел его урезонить, но тот словно чувствал свою силу, не уступал. Было правдой, что Тонконогий и духовенство обратил против себя, и рыцарство ему не благоприятствовало, и порядка у него не было.
Слабый всегда проигрывает, если даже прав, так бывало испокон веков и так будет, пока святость всевозможных законов будет уважаема. Там, где хоть одно маленькое или большое ущемляется безнаказанно, в конце концов никакой силы нет.
Таким образом, они разошлись непримиримыми врагами, быть может, ещё больше настроенными друг против друга, чем были, а Лешек только то приобрёл, что встречаться друг с другом и стоять глаза в глаза не так гнушались.
В последующие дни они проходили рядом по площади, ничего друг другу не делая, и не сидели дома, чтобы не сталкиваться. Только такая была польза от стараний князя Лешека, но он сам радовался этому, усматривая, что шаг к согласию был сделан.
Плвач, когда ему об этом говорили, смеялся и топал ногами.
– Мир будет, – говорил он своим, – когда я его в темнице запру, или прочь выгоню отсюда, потому что рядом со мной другого пана не потерплю.
В лагере в эти дни было веселей. Чуть белый день, уже люди у шинок толпами стояли, тот и этот подпевал. В шатрах шла игра в кости на пару с кубками. Дудки, кобзы и разные погремушки отзывались со всех сторон нестройными голосами.
Несмотря на старания тех, кто руководил лагерем, распоясанных людей уже трудно было сдержать. Лешек, когда ему жаловались, велел проявить снисходительность, говоря: «Пусть развлекаются».
Поэтому развлекались, необязательно невинно, потому что в окрестных костёльных деревнях сетовали на ночное насилие и разный разврат. Найти виновного в этой толпе было почти невозможно. Рыцарство не меньше их вытворяло, а среди рыцарей Лешека выделялся Яшко. У него был отдельный шатёр и его озорная дружина, с которой не расставался, а так как за собой имел отца Воеводу, заглянуть к нему и укрощать его никто не смел.
Чем дольше это продолжалось, тем больше была разнузданность. Напрасно Мшщуй сам и через своих людей на ближайшем дворе князя старался сохранить некоторый порядок.
Молодые люди, видя других безумствующих, сами также набирались охоты к распутству, выскальзывали из рук.
Не достаточно было лагеря; когда там строже начали следить, более распущенные выскальзывали по ночам и по утрам в Тжемешну, и там цистерцианцы жаловались, что в местечке устроили ад. Все легкомысленные мещане стягивались к лагерю, либо у себя открывали дома для людей из лагеря.
Воевода Марек, который обязан был людей из своих хоругвей сдерживать, смотрел на это сквозь пальцы. Яшко без доспехов, в лишь бы каком кафтане весь день или играл в кости и шутил или пил и слушал песенки. Здесь собирались все, кто недружелюбно относился к Одроважам. В разговорах часто