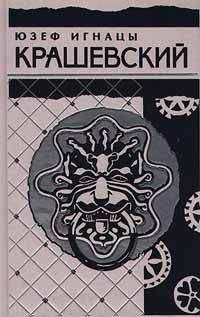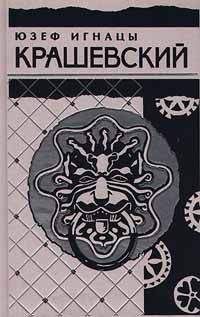снимут! – ответил холодно Яшко.
Он постоял ещё чуть-чуть, и, видя, что больше ничего не дождёться, потому что уставший Плвач ходил по комнате, Яшко поклонился и вышел.
На следующее утро, как было условлено, после богослужения, рыцарям объявили, чтобы готовились к походу. Они сначала этому не поверили, но и Марек Воевода, чтобы не попасть в подозрение, повторил тысячникам приказ. Нашлось множество препятствий, таже около полудня оказалось, что на следующий день выехать не было возможности.
Кони не были подкованы для ноябрьской замёрзшей земли; многих людей, разбросанных там и сям, не хватало; слуги с возами поехали за деревом.
Но был приказ – собираться. В иных отрядах шло ещё хуже. Мазурам князя Конрада было нужно несколько дней.
Небольшая группка Тонконогого разбежалась на все стороны.
У одного князя Генриха Силезского с Перегрином их немцы, которых держали в строгости, были готовы.
В лагере произошёл страшный переполох, будто бы от сильной спешки, а в действительности, чтобы сделать ещё больше неразбериху. Командиры рвали себе волосы, но собрать солдат в группу было невозможно. Это выглядело так, будто специально придумывали препятствия походу.
У князя Лешека терпение исчерпалось. Мягкий пан почувствовал, что нагрешил тем, что был слишком послушным, хотел исправиться и настаивал на своём.
Лозунгом было: «На Накло, и как можно скорее! На Накло!»
На всё он отвечал только этим одним словом.
Как человек медлительный, когда узнаёт себя и стыдится слабости, Лешек хотел доказать, что имел силу и непреклонную волю. Поэтому не помогали никакие предлоги о задержке – говорил, что пора было идти с чем попало, но двинуться немедленно.
Это первый раз, может, он так решительно объявил своё нерушимое постановление. Одни его за это хвалили, другие в войске ворчали. Одонич, который через своих людей обо всём знал, метался в доме, и наконец сам пошёл к Лешеку.
Он мрачно ему поклонился.
– Что это? – забормотал он. – Хотите на Святополка идти?
– Да, – ответил Лешек с силой, которую пытался себе придать. – Не хочет он ко мне, я к нему должен.
– А кто же говорил, что не хочет? – крикнул Плвач.
– Сколько дней я его жду. Я верховный пан, он обязан слушаться меня.
Одонич поглядел из-под нависших бровей.
– Обещал быть, значит будет, – сказал он через минуту.
– Встретимся на дороге, или у него дома, – ответил Лешек, который решил не поддаваться.
Плвач немного отступил.
– А вы что думаете делать? С ним идти или со мной? – спросил Лешек.
Плвач тихо, сухо засмеялся.
– Что? На шурина, который поднял меня из бедности, когда я из изгнания босой вырвался? Я? Против него?
– На шурина легче, чем на дядю, – говорил Лешек, – потому что тот всегда дальше, чем он.
– Он мне не шурин, он мне больше чем брат, он мой отец! Он мой благодетель! – резко начал Одонич. – Я на него не пойду!
– А на меня? – отворачиваясь, спросил Лешек.
Последовало молчание. Одонич плевал и глядел по сторонам.
– На вас не пойду, если, пожалуй, меня не вынудите, – ответил он.
В нём что-то задвигалось и взяло верх, почти невольно он приблизился к Лешеку.
– Не ходите вы на него, подождите! – сказал он с некоторой жалостью.
– Не могу, – сказал Лешек мягко, но решительно. – Не могу, потому что людям я показался бы посмешищем. Но не бойся о нём, – добавил он тише, – не желаю ничьей погибели, так помоги мне Бог!
Он положил к груди руку. Плвач с сожалением измерил его взглядом и смолк. Подходили также другие…
Мшщуй, более деятельный, чем все, крутился по комнате, отчитывая медлительных, торопя и не обращая внимания на то, что на него громко жаловались. Он один панский приказ принимал так близко к сердцу, что не хотел слушать о том, что он не мог быть исполнен. Ему одному казалось, что выйти завтра было возможно. Тех, что смели ему противоречить, он бранил и угрожал им. Сделался страшным.
Вбежав в лагерь, он не смотрел, над кем имел власть и приоритет, кто должен был его слушать, а кто мог отказать в послушании.
– Трутни, бездельники, – воскликнул он, проезжая на коне между палатками и шалашами. – На поле! Собираться!
На коней!
А там, где натыкался на пирующих под шатром, Валигура вырывал колья, разрезал верёвки и обрушивал шатёр людям на головы. К нему с гневом возвращалась прежняя сила, и метал так шалашами и штырями, что люди от него убегали.
Всё же это имело тот эффект, что поверили в панский приказ. В этом походе по лагерю Мшщуй натолкнулся на Яшку, который забавлялся по-своему, ни на что не обращая внимания. Обезумевший уже Валигура и ему шатёр обрушил на голову. Из полотна вырвалось несколько человек с мечами на старика.
Он стоял как стена.
– Ну что? Кто хочет помериться силой, пусть подойдёт.
Тогда Баран, хоть не очень хорошо держался на ногах, подошёл к Мшщую, желая его зарезать, но, прежде чем имел время, замахнувшись, опустить меч, Валигура, схватив его за кафтан, бросил с такой силой в группу его приятелей, что двое под ним рухнули, а Баран распластался на земле.
Послышался ужасный крик и одновременно несколько человек напало на старца, сидящего на коне. Для обороны и он достал меч. К счастью, на этот шум выбежал из соседней палатки воевода и громким возгласом задержал нападающих.
Началась перебранка.
– У тебя нет права приказывать!
– Не я приказываю, но пан, который имеет право! – вставил Мшщуй. – Кто его не слушает, того нужно проучить.
Молодые начали ругаться.
Более разумный воевода, не обращая ни на что внимания, приказал своим отступить в сторону, а Валигуре объявил, что будет жаловаться. Так это окончилось, но всё рвение Мшщуя ничуть не помогло, и с первого взгляда легко было понять, что о выдвижении из Гонсавы назавтра нечего было и думать.
Валигура, который проезжал везде и заглядывал в углы, то же состояние нашёл в лагере Тонконогого, где все приказывали, а никто не слушал, и у князя Конрада Мазовецкого, когда ему безучастно поведали, что им ещё для такого внезапного выхода собираться не велели. К людям князя Генриха Мшщуй даже не заглядывал, потому что немцы не впустили бы его туда, а он с ними не хотел иметь дел. Но оттого, что люди двух лагерей, силезского и мазурского, встречались друг с другом, между ними проезжая, когда уже наступал ранний в эту пору вечер, он заметил сидящего у костра немца, от вида которого весь содрогнулся.
Он незаметно осадил коня, останавливаясь в тени, чтобы лучше присмотреться, не обманывают ли его глаза.