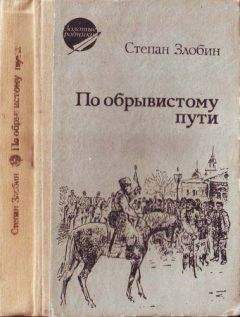— И уходи! Подыхай под забором! Кому-то ты нужен! — злобно крикнула Варька.
— А случись — буду жив, до деревни дойду, так матери расскажу, чем ты стала… Потаскухой ты стала! — припечатал Антон, задерживаясь у приотворенной двери, из которой дунуло холодом в избу.
— Убью-у! — завопила Варька и кинулась на него.
Антон хлопнул дверью и вышел.
Весть о смерти забытой подруги ударила Лизавету, как камнем по темени. Сколько прожито вместе! Ведь думала только её проучить, переупрямить хотела, а та не далась! Не такая!.. Да кто же ее знал, что ей плохо-то так! Кабы знать, Лизавета пришла бы к ней и сама, смирилась бы. А вышло, что с глаз долой и забыла!.. Да как же я, право, так! — растерянно, с болью в груди думала Лизавета, почти не слыша, что там у них идет дальше — у Варьки с Антоном. У них что ни день — перебранка… Не может Антон простить Варьке ни того, что она позабыла девичью честь, ни того, что живет на месте Маньки в «хозяйской». Лизавета не, слушала их. В груди у неё кипело раскаянье.
— Анто-он! Да постой, погоди! — опомнилась, наконец, Лизавета. — Да куда же он, старый пес?1 — в злом и жалком отчаянии забормотала она. — Неужто же правда — в деревню?! С голоду сдохнет, покуль доберется! Варька! Беги догони его. Сунь ему, ироду, хоть печёнки кус да полтину… Да живей! Накинь мой полушалок, беги! — приказала она.
— Больно-то надо бежать! И пускай издохнет! — огрызнулась Варька и неторопливо ушла в «хозяйскую».
— Да что ты, охальница! Дядя ведь тебе, материн брат! Да как ты так смеешь, паскуда! Я тебе морду-то нахлещу, что ты и до самого гроба того не повторишь! Беги, говорю, догони! — войдя за Варькой в свою комнатушку, потребовала Лизавета.
— Нахлестала одна такая! Морды, что ли, на ярманке подешевели — хлестать-то! Хозяйка нашлась! — не сдалась и Варвара. — Я, может, стану хозяйкой получше тебя! Мне, может, и за тобой и за твоим Федотом присматривать указали!.. Какой он мне дядя, когда такие слова на самого государя-освободителя сказывал, все слыхали!..
— Ты постой, ты постой! Ты думай, что лопочешь! — вдруг строго, спокойно и холодно остановила её Лизавета. — За мной, за Федотом присматривать?! Да кто же тебе указал?
Лизавета шагнула к Варьке, прижала её в углу под иконой, изловчилась, поймала за жидкие волосы и стала хлестать по щекам.
— А что же ты можешь сказать кому про меня и про Федота?! Я в морду пойду наплюю тому, кто тебе указал! При всех ему в рожу! При всех! При всех!..
Лизавета била её без жалости изо всей своей силы, с размаха тяжёлой руки. Она ожидала, что Варька станет визжать, кричать, вырываться. Но та лишь тихонько скулила, не смея громко подать голос.
За стенкой все притаились, довольные этой хозяйской расправой. Варька вдруг испугалась именно этой тишины.
— Тётенька, отпусти, я не буду. Сдуру сблудила я языком. Не жалуйся, тетенька, на меня, — почти шепотом умоляла Варька. — Пусти, я дядю Антона побегу догоню… Я рупь ему дам на дорогу… Вот крест честной, дам ему рупь из своих.
И тут Лизавете вдруг стало ясно, что Варьке и в самом деле поручили за ними следить, доносить… Лизавета мигом остыла.
— Иди уж, брехливая сучка! — сказала она презрительно. — Наплела, да сама не рада… Беги догоняй Антона, — приказала она, выпустив девку из рук.
— Варька, накинув платок на узенькие плечишки, выскочила на улицу.
Злость на неё с Лизаветы будто рукой сняло. Ну, дура и есть дура! Тот косой, из охранного, её по дешевке на леденцы да ленты приманивал… Нет, тут дело, по правде, совсем в ином: значит, за ними за всеми «присматривать» надо?! И Федоту не верят?! А сколь говорят про доверие властей предержащих к рабочему люду, к мастеровым и фабричным… Варька теперь уж правды не скажет! Со злости да сдуру она сорвалась… Ну, и стерва — про дядю родного такое-то слово!.. А он-то, безрукий-то, правду ведь молвил: золотую-то девку, Маньку, сменяла я на змеёныша, на шкуреху… А хеперь и Антон ушел. И как я его попрекнула, поганая баба, запечным углом даровым! Кого попрекнула!.. — корила она себя, стоя у подернутого морозом окна, от которого так и несло холодищем…
Варька вернулась, вся занесённая снегом.
— Где ж по такой-то поре его сыщешь — снежина валит какой!.. Да он, чай, вернется, тетенька… С сердцов да спьяну сказал, — попыталась она успокоить хозяйку. — Куда ему деться!..
— Нет, Антон что сказал, то уж баста! Я знаю Антона. У него слово — то, ещё и колом подперто! — возразила Лизавета и отвернулась опять к окошку.
— Тетенька Лизавета, я сбегаю, что ли, стюдню куплю, да ситничка, что ли? — несмело сказала Варька.
— Иди куды хошь! Отвяжись!
Варька начала одеваться, но медлила, все ждала, что Лизавета накажет купить ещё шкалик и на том они помирятся. Но Лизавета стояла недвижно, широченной спиной заслоняя окно.
— Тётенька Лизавета, я лампу вздую.
— Сама зажгу, коли надо! — оборвала хозяйка.
— Тётенька, ты ничего Филиппу-то Алексеичу не говори, чего я наболтала. Я и сама не знаю, как в голову мне со злости на дядю вошло, — прошептала Варька.
— Надо мне больно с твоим косым кобелем беседы ещё про тебя разводить! Ты себя-то блюди. Не смотри, что он из охраны. Вот бросит тебя с брюхом, так взвоешь! — по-прежнему, не повернувшись, строго произнесла Лизавета.
— Да, тётенька, разве такая я? — жалобно хныкала Варька. — Ты, небось, и Фёдоту Степанычу тоже наскажешь?! — допытывалась она.
— Только Фёдоту Степанычу и забот, что твоя девическа честь! У него дела поважнее! — с достоинством оборвала Лизавета. — Иди, что ли, в чайную! — нетерпеливо прикрикнула она.
И когда Варька хлопнула дверью, Лизавета подумала, что в подходящий часок непременно надо шепнуть Федоту о том, что болтнула Варька, и все слова Антона ему передать. Пусть со злости и поколотит ее вгорячах. «Шут с ним! Не раз колотил, — не помру! А правда-то в сердце ему заляжет. Хоть на самое донышко, в уголок, хоть зернышком маковым упадет… Ничего, потом прорастет, пробьётся!..»
И ещё Лизавета подумала, что покойница Манька простит на том свете ей много грехов, если она заронит в Федотово сердце семечко правды, в которую сама Лизавета так все время втайне и верила, хотя, подчиняясь Федоту, по-глупому, против ума своего, вместе с другими, грешила на эту правду… Такая уж бабья доля: наперекор своей совести, разуму, вере, а мужицкий ум признавай, покоряйся!..
Не дождавшись возвращения Варьки, не зажигая лампы, не раздеваясь, Лизавета легла на кровать, не скинула даже с подушки кружевного покрывала, натянула на спину стеганку. Не ела, и есть не хотелось.
Она силилась представить себе умершую Маню. Но вместо того ей виделась прошлогодняя людная площадь Страстного монастыря, красный флаг впереди, над толпою, и ликующая, живая подруга Манька, которая со счастливым лицом повторяет: «Хорошо, хорошо-то как, Лизка! Радость-то, праздник народу какой!..»
2
Старый однорукий ткач ехал «чугункой» в родную деревню. Уйдя из избы, в которой он прожил из милости несколько лет на печи, недели две отирался Антон по ночлежкам, у Хитрова рынка, потом пришел на вокзал, толкался там, христарадничал. Швейцар его гнал, отдал полиции. После ночлега в участке Антон опять тащился туда же: ведь ездят же зайцами люди — неужто уж он-то дурее других!.. Но он не сумел. Приметного однорукого нищего снова сгребли в полицию. И когда он в третий раз угодил все к тому же приставу, ему повезло: городовой, собиравшийся из Москвы на побывку в деревню, оказался Антону земляком и предложил доставить бродягу на родину, где и сдать волостному начальству. Городовому была в том своя корысть: сопровождая бродягу, он ехал словно бы по служебной надобности, в командировку, и получал за то кормовые деньги да бесплатный проезд. Если бы не добрые отношения земляка-полицейского со своим полицейским начальством, которому он посулил привезти из деревни жирного гусака, то сидеть бы Антону месяца два в кутузке, ждать, пока подберется попутный этап. А теперь он ехал, «как барин», за казенный счет, с отдельным конвоем в вагоне четвёртого класса. Не то что блох кормить в кутузке да жить с отпетым ворьем или идти пешедралом голодному от деревни к деревне, стучась под окошками Христа ради…
Поезд постукивал однотонно, потряхивая на рельсовых стыках, качался, гремел, и было ему впереди ещё постукивать да качаться, да снова стоять в тупиках, выжидая, пока пройдут курьерские, пассажирские и почтовые поезда. Их поезд был самый длинный и самый медлительный.
— У нашего поезда звания ведь какая отменная — товаро-пассажирский! Что ни пассажир, то и товар? Купцам продать — гору денег наворотили бы! — балагурил Антон.
— Ох ты и «товар», старик! — вздохнул его страж. — Знал бы я, сколько с тобой неприятностев, никогда не взялся бы тебя доставлять. Я думал ведь — так, старичок… Смотрю — без руки. Пожалел я тебя, а ты озорной, языкатый!.. Ну что тебе за беда, что поезд стоит! Постоит да пойдёт! Не на свадьбу спешить. Другие молчат и едут. Деньги платили, а едут, молчат, а ты всем недоволен, шумишь… Ты бы к стенке присунулся, спал бы уж, что ли! — уговаривал городовой.