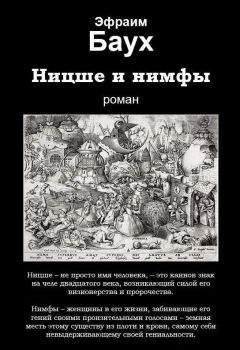Ознакомительная версия.
Ифигения
220
Ах, Орест, кровь твоей матери Клитемнестры на твоей совести, и по следам твоим пылают факелы мести до полного твоего исчезновения.
Ты отомстил ей за совершенное ею убийство отца твоего Агамемнона, великого аргосского царя, потому что он согласился отдать в жертву старшую их дочь Ифигению богине Артемиде за попутный ветер его флоту в походе на Трою. Ты, Орест, жаждал отомстить за старшую и любимую твою сестру Ифигению, и с помощью другой сестры — Электры поднял меч на родную мать.
Меня съедает собственная вина. Мать, я знаю, что убил тебя своей неизбывной ненавистью, которой было достаточно, чтобы убить всех матерей на земле.
Но в последний миг Артемида сжалилась над жертвой и подменила девушку ланью, а Ифигению унесла на облаке в далекую Тавриду, ныне полуостров Крым, о котором с восторгом рассказывала мне Лу.
Кровная месть, с налитыми кровью белками глаз, оставляя кровавые следы, крадется из одной греческой трагедии в другую, и зрители древней Греции, примериваясь к героям, испытывают катарсис по Аристотелю. Но меня, как и Ореста, преследуют богини кровной мести Эриннии, за убийство матери. Они гнали в муках меня по Европе, как Ореста, по всей Греции, наслав на нас безумие.
Его спасли бог Аполлон и богиня Афина. В Афинах был суд между Эринниями и Орестом, и Орест был оправдан.
Но кто оправдает и спасет меня?
Только ты, Ифигения, объяснишь причины моей и ее вины, проповедницы морали, и мы вместе сойдем тенями в Преисподнюю, на дно мерзости, которую сотворили египтяне для страданий кровосмесителей.
Ифигения, твой брат Орест удивляется чуду вылеченных рук.
Нет ни на небе, ни на земле того, кто задержит страсть моему обновлению, вопреки безумному отчаянию.
Пойте, демоны, трубите в трубы, собирайтесь и окружайте страх, объемлющий душу, пока не рухнут ее стены. Пой, Сатана, сделай бурю в небесах, гони ангелов и пролей твой жестокий свет на пустой престол Христа. Это взываю я, Ницше, — великий разрушитель и великий созидатель. Создаю новое небо и землю духом Прометея, мощью души Заратустры, широкой, как море.
Но мы разделены трагической дисгармонией. Мы противоречим самим себе. Не молись богам, о себе молись, припади к земле, как Антей. Наберись сил от земли. Мы отвечаем за то, что нам определено судьбой. Я — твоя судьба, и ты — моя. Ифигения, Орест упал в бездну Преисподней, земля рухнула над его головой, добрая земля, которой он верил до последнего вздоха. Спаси меня, любовь моя, спаси влюбленного в жизнь! Спаси! Я похоронен заживо. Спаси, Ифигения! Спаси! Только ты сможешь спасти меня от опьянения Диониса, когда радость жизни оборачивает ад раем, где растают все земные искажения и вся ненависть — в экстазе вечного мгновения, и темные грехи сгорят в пламени огненных завихрений бездны
212
Исходя из того, что с огнем надо бороться огнем, моя мать пригласила явно ненормального мужика — доктора Юлиуса Лангбайна, который с подражанием попугая моему сочинению «Шопенгауэр как воспитатель» написал — «Рембрандт как воспитатель», доказывая, что Рембрандту под силу все вылечить, главным образом, заворот кишок и ветряную оспу. В дни моего пребывания в доме умалишенных она приводила мне в качестве подарка это существо, которое всегда давало мне почувствовать себя нормальным и трезво глядящим на мир.
Профессора — национальная болезнь Германии. И доктор Лангбайн, который, мне кажется, является профессором по эстетике, испускает эту национальную болезнь из всех отверстий своей личности. Из его взволнованной речи я усваивал, что сосредоточение на прекрасных картинах может лишь взбунтовать оставшиеся осколки души. Но я предпочитал сосредоточиться на красивых женщинах, ибо они существа из плоти и крови, божественные шедевры, которых даже сам Рембрандт не смог копировать. Потому ли изводило меня ощущение опустошенности и страха смерти за каждой преходящей минутой и приближало к открытию, скорее, ощущению воли к власти, которая могла исчезнуть в следующий миг?
Была ли эта личная моя погоня за волей вызовом Богу, которого я хотел переиграть уже самим желанием — прорваться «по ту сторону добра» — ко злу? Или это была лишь жажда — преодолеть опустошенность и страх смерти, а там — хоть трава не расти? Ведь я не туп до уровня немца, пруссака, чтобы не понимать, что мое восстание против существующих правил и согласованностей развязывает все сдерживающие начала.
Я, несомненно, предвидел, что это приведет мир к взрыву, а меня упрячут в дом умалишенных или к ней, моей матери, в Наумбург, что одно и то же, а, если честно признаться себе, — даже хуже. И вот сбылось.
Я снова в Наумбурге, чтобы убедиться в печальной истине, что все же единственно нормальные находятся в заведениях душевно больных.
Так или иначе, трудно свыкнуться с мыслью, что лишь ценой самоуничтожения можно познать смысл жизни.
Иногда у меня возникает ощущение, что во мне две души — блуждающая и заблудшая, хотя я чаще всего, отрицаю существование души.
И, все же, кажется, именно заблудшая душа испытывает временами мучение, вплоть до желания самоуничтожиться, из-за того, что выпустила джина из бутылки — отрицание Бога.
Это приходит внезапно, как приступ, вдобавок к постоянным угрызениям совести из-за запретной связи с сестрой. И мало радует, что в промежутках между приступами я чувствую себя сверх меры здоровым.
И доктора, выслушивающие и выстукивающие всего меня, не находят во мне никакой болезни. Их это ставит в тупик.
А я пытаюсь им объяснить, заставляя их таращить на меня глаза, что все происходит в душе от того, что совесть, то есть, мораль предваряет эстетику. В это я верил, когда изображал себя врагом морали, с целью придать меру морали нашему времени, погруженному в нигилизм. Эстетический человек беспомощен перед разгромом личности или массы. Это стало ясно Гейне, прикованному к «матрасной могиле».
И находясь в нижнем, подземном, донном мире вместе с Одиссеем, тенью среди теней, мог ли я поверить в то, что картины Рембрандта или музыка Вагнера могут освободить человека из земного ада?
Для этого потребуется громовое звучание труб Суда, возвещающего о провалившемся в тартарары нашем прогнившем мире. И могут ли глупости доктора Лангбайна вернуть мне покой духа, успокоение души, когда нет любимой моего сердца, и еврей, страдающий эпилепсией, распят в центре моего мозга, и насмехается надо мной диким смехом, как буйствующий Самсон, которому филистимляне выкололи глаза и заковали в оковы, а он яростно кричит своим палачам:
«Мудрость мира в унижении Бога».
Хватит, этот грубый смех должен прекратиться. Я столкну столпы нормальности и нырну в эту груду развалин.
Еврей знает, как высмеять борца за культуру, который не может снова набраться сил для борьбы, ибо он потерял веру в собственные принципы. Но смерть прекращает любые насмешки. Смех должен замереть по эту сторону могилы.
Распятие не дает мне покоя. Все мысли мои крутятся вокруг фигуры Христа: не могу от него оторваться и, проклиная его, тянусь к нему, чувствуя, как истаивают во мне последние силы. Мое христианство и анти христианство — оба родились из духа злопамятства. Но христиане полны злопамятства, враждебного жизни. Во мне же злопамятство это — вражда к смерти, к мягким поцелуям Распятого. Потому моя мысль последовательно движется по золотой середине, без которой, по исповеди Паскаля, мы покидаем свою человечность и падаем в яму Паскаля — яму отвращения к самому себе.
222
Я вернулся в отчий дом, на улице Вайнгартен, номер восемнадцать, града Наумбурга, стены которого покинул четырнадцатилетним подростком. Когда я был малышом, дом казался мне огромным, просторным. По мере того, как я рос, стены вокруг меня сжимались, дом скукоживался.
Сейчас мне в нем стало совсем тесно, но я научился экономно дышать, более того, подсказывать Маме, набожной лютеранке, стихи из Библии, вызывая в ней искреннее удивление. Она никак не могла совместить это в своем сознании с написанным мною «Антихристом» и, кажется, вообще лелеяла мысль сжечь все мной написанное, которое она считала богохульным.
Но я знал, что этого ей не даст сделать моя сестрица. Я-то считал каждый пфенниг, она же, абсолютная невежда в философии, весьма оборотиста и, несмотря на все ее провалы финансовых дел в Парагвае, уверена, что на моих сочинениях заработает кучу денег. Хищность этой Медузы Горгоны не знает пределов. Да мне и не жалко: деньги никогда не превалировали в моей жизни. Но главное и самое страшное то, что она, ради наживы, извратит, исказит всё, что в моем учении великого и незаурядного, превратив меня в монстра.
При всей ее недалекости, пальчики у нее цепкие и вкрадчивые, уж я-то знаю это с детских лет. Она меня умертвит, как лягушку, выставив «безумным философом» для публичных зрелищ.
Ознакомительная версия.