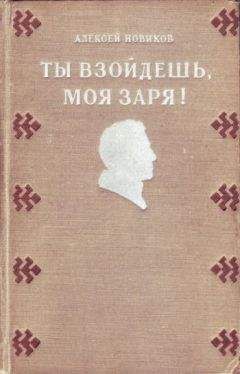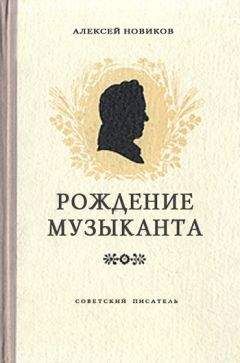Ознакомительная версия.
– Сомнительные мысли в тайне держи, а действуй, как тебе сердце подскажет. Ты, Михайлушка, в малом ошибешься, а в большом – никогда… Расскажи лучше, как у тебя с Машенькой дела идут?
– А что? – Глинка страшно удивился. – Живем душа в душу. Я на Мари наглядеться не могу, а Мари… – Глинка задумался и встретил пристальный взгляд матери. – Вот я перед ней, точно, виноват.
– А коли виноват, так и кайся.
– Извольте, – с полной охотой согласился сын. – Хотел я Машеньку многому научить. Надобно знания ее пополнить. К музыке хотел ее приохотить.
– Она мне сказывала, что поет твои романсы.
– Ну, какое же это пение! Кое-что мы с голоса разучили, а до нот так и не дошли. Опять же моя вина! Природа Машеньку не обидела, а я плохой помощник оказался.
– Одним словом, по пословице – благими намерениями ад вымощен? – спросила Евгения Андреевна.
– Судите, маменька: когда же мне? – Он что-то вспомнил и сказал с сердечным огорчением: – Пушкина не дочитали, а до Шиллера так и не добрались. Кого же винить?
– Насчет Шиллера я ничего тебе не скажу; может быть, никак нельзя без него обойтись, – Евгения Андреевна добродушно усмехнулась. – В наше время мы книжек тоже не чурались. Папенька твой тоже слал мне книжки с иносказанием. Известное дело, любви разные утехи надобны. Только мы и без сочинителей знали, что любовь да верность – главное в семейной жизни. А книжки, конечно, всегда пользу принесут. Только то мне удивительно, что Машенька сама книжек в руки не берет.
– А вот кончу с оперой, тогда за Машеньку возьмусь и все мои вины искуплю.
– Свои вины ты хорошо видишь, а нет ли перед тобой жениной вины?
– Да чем же может быть виновата передо мной Мари? – спросил Глинка с полным недоумением. – Мари пожертвовала мне своей юностью. Может ли быть большее доказательство любви? Никак не могу уразуметь, маменька, что вы хотели сказать? – Глинка растерялся и был похож на человека, над которым должна разразиться беда, но он не знает, откуда ее ждать.
– А разве спросить нельзя? – продолжала Евгения Андреевна. – Ох ты, огневой! Матери-то, чай, тоже интересно знать, как сын живет. Стало быть, вполне счастлив, Михайлушка?
– Клянусь вам, да! Так счастлив, что одного боюсь: как бы не ушло от меня это счастье. – Он обнял Евгению Андреевну. – Не в моих правилах сентименты разводить, но вам не поколеблясь скажу: люблю всем сердцем, а, признаться, даже не верил в такую возможность… Мари воскресила вам сына.
– А коли так, то и кончен разговор. Иди спать, полуношник.
Глинка нежно поцеловал мать и глянул ей в глаза. Глаза эти, казалось, были счастливы его счастьем.
– Поживете с нами подольше, маменька, тогда еще больше оцените Мари.
На какой-то миг Евгения Андреевна заколебалась и хотела открыть сыну правду. Она давно и по достоинству оценила невестку; она еще раз убедилась в Петербурге в том, что сын живет в обманчивом мире, созданном его воображением. Заколебалась Евгения Андреевна, но сейчас же устрашилась своего намерения: нельзя смущать Мишеля, он людям служит. И улыбнулась сыну усердная мать и еще раз повторила с суровой лаской:
– Ну, иди на покой, полуношник!
Сын пошел было к двери и вернулся.
– Вы, маменька, что-нибудь из Гоголя читали?
– Глаза, Мишенька, слабеют. Избегаю печатного листа. А Людмила, помнится, читала вслух. Это тот, который про старосветских помещиков писал да еще про Тараса Бульбу?
– Тот самый! Как вам Бульба пришелся?
– Глубоко твой Гоголь в материнское сердце заглянул, нельзя глубже. А материнская любовь когда без страдания обойдется? – Евгения Андреевна незаметно вздохнула, думая о своем, и перевела разговор: – Ты, часом, и этого сочинителя знаешь?
– Имею честь! И, представьте, у него скоро на театре удивительная комедия пойдет, сам хлопот не оберется, а когда вырвется, непременно на моих пробах сидит.
– Любитель, значит?
– Мало сказать любитель, маменька. Он среди писателей первый дока по народной музыке.
– Счастлив ты, Мишенька, что этакие знакомства имеешь.
– Как же мне не гордиться, когда Николай Васильевич, надежда русской словесности, изучает мою оперу чуть ли не нота в ноту! А уж если хвастать, маменька, так извольте знать, что был у меня о «Сусанине» с самим Пушкиным разговор. Вот вы меня опрашивали, не в одиночестве ли я тружусь. Как же мне одиноким быть?
Глинка опять сел около Евгении Андреевны.
– И коли зашел у нас с вами такой разговор, – сказал он, – извольте мою смиренную просьбу выслушать…
– Не юли, не юли, выкладывай! Авось и я тебе чем-нибудь послужу.
– Не мне, маменька, а детищу моему.
– Пока ты будешь мне свои присказки сказывать, мы, пожалуй, и до утра с тобой досидим. Говорю, не виляй!
– Извольте. Заключается моя просьба в том, что хочу я пригласить к нам Пушкина, и думаю, что не откажет Александр Сергеевич.
– А я тут при чем?
– А при том, голубчик маменька, что без вас никак не мог я своего намерения осуществить. На Луизу Карловну как на хозяйку дома, сами знаете, надежда плохая. Машенька по неопытности совсем смутиться может.
– Никак с тобой не спорю. Дивлюсь только, как в твою беспутную голову мысль обо мне пришла. Я и сама, милый, растеряюсь. Мы хоть и в Ельне сидим, а кое-что тоже знаем. На него, на Пушкина, вся Россия смотрит. А тут изволь по сыновней прихоти сама перед ним предстань. С ума ты, Михайлушка, сошел!
Глинка смеялся совсем по-детски, глядя, в какое смятение пришла Евгения Андреевна.
– А вдруг бы, маменька, он ко мне без предупреждения пожаловал? Ведь не убежали бы вы тогда?
– А почем знать? Может быть, и убежала бы, – Евгения Андреевна хитро посмотрела на сына. – А потом, конечно, в какую-нибудь малую щелку непременно на него взглянула. Кто тут устоит?
Глинка видел, что Евгения Андреевна уже свыкается с неожиданностью.
– Если бы вы знали, маменька, – сказал он серьезно, – какой важный разговор имею я к Пушкину, никогда бы мне не отказали.
– Насчет оперы разговор?
– Угадали, сразу угадали, маменька!
– Неужто же Пушкин у вас и по этой части судья? Никак не пойму. Тебе бы, думаю, с оперой в театр надо или еще куда повыше.
– Вот я и обращаюсь к тому, кого выше нет. Согласны, маменька?
– Иди спать!
– Значит, согласны?
– Разве я сказала?
– Конечно, сказали! И теперь я спокоен: принять Александра Сергеевича при мудрой моей матери – большей чести я оказать ему не могу.
В одной из петербургских типографий печатался первый номер нового журнала. Сбылась давняя мечта Пушкина. Издаваемый им «Современник» объединит лучшие силы словесности и явит высокую степень русской образованности и русского искусства. Журнал будет противостоять всему бесчестному, вздорному и невежественному, что печатается с благословения начальства. «Современник» будет руководствоваться единственно любовью к России и к народу, непрестанной думой о судьбах отечества.
Первый номер журнала печатался в типографии, а неутомимый издатель усердно собирал материалы для следующих выпусков. Гоголь дал для «Современника» свою статью о движении журнальной литературы и теперь обещал заметки о петербургских театрах.
В этих заметках писатель обозревал драму, балет и оперу, все достойное внимания из текущего репертуара. В театре драматическом Гоголь обрушился на мелодраму, которая состоит из убийств и преступлений и между тем ни одно лицо не возбуждает участия. В музыкальном театре автор называл несколько опер, не сходящих с репертуара, – «Роберта», «Норму», «Фенеллу» и «Семирамиду» – и тут же поставил вопрос о русской музыке.
«В самом деле, – писал Гоголь, – какую оперу, какую музыку можно составить из наших народных мотивов! Покажите мне народ, у которого больше было бы песен! Малороссия кипит песнями. По всей Волге влекутся, звенят бурлацкие песни. Под песни рубятся из бревен избы по всей Руси, метают из рук в руки кирпичи, и подымаются домы. Под песни работает вся Русь. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами казак любит, заряжая пищаль, петь старинную песню. На другом конце, у Морозного моря, верхом на пловучей льдине русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню… Что? У нас ли не из чего составить оперы своей? Нет, погодите, люди чужеземные!..»
Автор не ссылался в подтверждение своих слов ни на одну из опер, идущих на сцене. Читатель мог бы воспринять эти строки как мечту, как провидение, как клич писателя, обращенный к музыкантам.
Но эти строки появились совсем не случайно в рукописи Гоголя, предназначенной для «Современника». Они родились как раз в те дни, когда автор «Ревизора» вырывал каждый свободный час, чтобы присутствовать на пробах «Ивана Сусанина», происходивших у Виельгорского.
Имя Глинки не было названо в набросках статьи. Это и понятно. Статья готовилась для срочного печатания в журнале, а опера еще не была принята на театр. Но Гоголь был уверен: каждый поймет, о ком идет речь.
Ознакомительная версия.