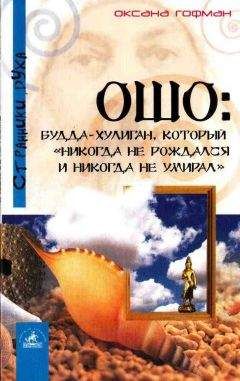слабо сделалось его тело, которое уже как бы не жило, а обреталось в этой, почти до предела изношенной человеческой форме. Да, Джанге было непривычно волнение, отчего затрепетала в нем тревога. Он не знал по первости, что явилось ее причиной, но спустя немного догадался, что произошло с Марой. Он и раньше понимал, почему еще в его теле держалась жизнь. Конечно же, потому, что она нужна была Маре, а вовсе не ему, Джанге, он уже давно тяготился мирской жизнью, которая ни к чему не привела его, только к разочарованию, ведь он так и не помешал сыну царя сакиев сделаться Татхагатой. Однажды Мара сказал, что Джанга будет жить в форме брамина до тех пор, пока сам он не потеряет прежней силы. Значит, с Богом разрушения что-то случилось. Нет, Джанга не подумал так, а покинув свое старое тело, лишь обозначил это, возносясь над земным миром и поспешая к неведомому пределу, проникнувшись несвычным с его духом, хотя и взбулгаченном долгое время совершаемой им несправедливостью, все же не утратившим ощущения непрерывности мирского движения, от истинного блага отклоненным глухим и трепетным нетерпением. В этом, уже отдаленном от земного мира нетерпении духа было немало от давних желаний, пережитых старым брамином, они как бы составляли с ним одно целое, и это было то, отчего он хотел бы отказаться. Но не умел… Оттого в нем и страх, и смятение, и все захлестывающая жажда неведомого. И отныне пребудет это в нем вечно и станет его неугасающей пагубой.
Татхагата закрыл глаза и вздохнул, видения, посетившие его, не были в успокоение ему, он не желал никому зла, даже худшему на земле. Он долго находился в состоянии не то чтобы близком к созерцанию, часто выручавшему тем, что отодвигало боль, а и не далеком от него, было ощущение, что он на речной волне, которая не сильна, но и не слаба, в легком челне, вода несет его, и он не знает, куда?.. И ему не хочется знать, куда?.. Зачем? Ему хорошо, и это главное. Он доверился воде, с недавнего времени он понял ее сущность, она живая, но в отличие от мирских существ не склонна к переменам, даже больше, старательно избегает их, хотя и не может до конца избавиться от них и, бывает, вдруг прерывает мерность течения и делается шумным и глухо, недовольно гудящим. Но и тогда при внимательном рассмотрении можно увидеть в реке от веку присущее ей постоянство.
Татхагата в челне, а кругом вода, он касается ее рукой, и она отдает ему тихо журчащее тепло. А бывает, он зачерпнет ее ладонью и поднесет к глазам и уже в который раз удивится свету, лучащемуся в ней, в каждой капле… Сызмала ему нравилось, придя на реку, свеситься с берега и, сдерживая в себе сладкое душевное напряжение, смотреть на воду и видеть то, что сокрыто от другого. Вот и ныне он мысленно разглядел изжелта взблескивающую учерненность, что трепетная едва обозначалась на качающейся волне. Он увидел речную воду и что-то передалось ему от нее, сила какая-то, он открыл глаза, а потом поднялся с земли и пошел… Ученики не покидали его, были рядом, поддерживали Просветленного, если он медлил и долго стоял, покачиваясь. Он пришел в тихую безлюдную рощу близ городка Паву. Слух о том, что появился Татхагата, разнесся по ближним окрестностям, достиг и жилища местного кузнеца крепкорукого Чунды, он уже давно хотел видеть за своим столом Благословенного, и теперь, не в силах сдержать нахлынувших на него чувств и почему-то понимая, что Татхагата не откажет, заторопился в рощу и скоро был среди высоко вскинувших над землей темно-зеленые кроны манговых деревьев. Он говорил с Просветленным, а тот и вправду не отказал ему, и пошел в жилище Чунды.
— Чунда, свинину, что ты приготовил, дай мне, — сказал Татхагата, тяжело дыша. — А ученикам принеси чего-нибудь полегче…
Чунда, проявляя необыкновенную для своего большого тела расторопность, так и распорядился…
Татхагата поел и обратился к хозяину с просьбой:
— Все, что осталось от свинины, унеси из жилища и закопай…
Чунда, хотя и недоумевая, сделал, как велел Просветленный, а потом проводил его в Манговую рощу. Татхагату стали мучить сильные боли, но он был терпелив, сдерживаясь, чтобы не застонать, обронил:
— Ананда, мы пойдем к Кушинагару.
— Но, Владыка…
— Нет, нет… Я сказал… — Помедлив, добавил: — Кто-то будет говорить Чунде с укором, что, отведав у него свиного мяса, Татхагата заболел и покинул преходящее. Так вот я хочу, Ананда, когда меня не станет на земле, чтобы ты сказал Чунде: ему не надо огорчаться, напротив, он должен радоваться, что так получилось. Какая пища более всего достойна благословения? Та, отведав которую Татхагата достигает озарения, а еще та, что помогла ему вступить в Нирвану. И да коснется Чунды сияние благодатного света!
Татхагата дошел до реки Какутхи близ Кушинагару и велел бросить на землю мантию, лег на нее. Но вот поднялся и уже не в состоянии двигаться сам попросил учеников подвести его к воде, долго смотрел на нее, посверкивающую в предвечерьи, нашептывающую что-то… Ах, о чем же она?.. Нет, не о том, что было с ним на земле, а о чем-то далеком, сокрытом временем. За желтой волной, что утягивалась от берега, своенравная, узрилось дивное, поломавшее время… Но сначала в своем продвижении к будущему он встретил Белого Гунна и говорил с ним, еще не обретшем покоя, но уже приближающимся к нему, всевластному. Он принял спокойно и с удовлетворением весть о том, что Белый Гунн нашел свое место в легшем издалека и смутно проглядываемом пространстве. А потом взору Татхагаты открылось еще не случившееся на земле, он увидел мудрого славянского царя Канишку, воссевшего на индийский престол, близкого ему по духу, признавшего Дхамму и в ней отыскавшего благостное для себя, увидел и живущего в царском дворце поэта Ашагхошу, услышал славящие его, Просветленного, строки из поэмы «Будхасарита», и все так ясно и осязаемо, как если бы это происходило рядом с ним, а не было отодвинуто на много веков вперед. И не вызвало это никакого удивления и воспринялось естественно его духовной сутью, которая, хотя и обреталась в нем, жила как бы отдаленной ото всего жизнью, часто замыкаясь в призрачном, а то вдруг вознесшись над телом и наблюдая его со стороны. Может, отсюда, от царя Канишки, и проляжет тропа Будды в северную славянскую землю, там, дав ему имя Иосаф,