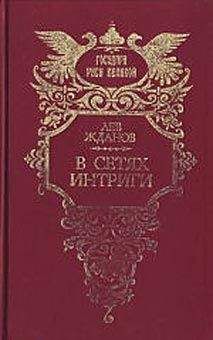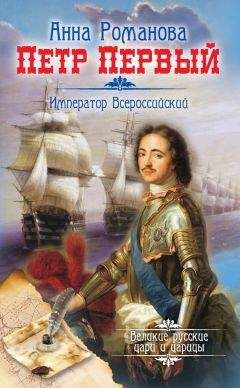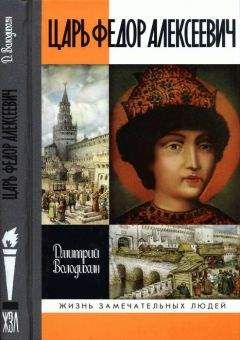– Проказник, этот князь Андрей! – улыбаясь слабо, похвалила Гагарина Анна.
– А еще што я слыхала… истинно дива достойно! – сыпала дальше говорунья. – В казенный день, когда наказывать полагается на торгу, девку ль, бабенку ли одну стегать надо было… За дела за воровские. Она и молит: «Ноне час мне приспел… рожать надо! Ох, не бейте! Неповинную душу забьете во чреве!» А по виду и не знать, што уж пора ее настала… Брюхо-то не больно велико. И не послухали, повели рабу Божию… А она тут на месте, как первые кнуты хряпнули, возьми, тройню и родила!..
– Што ты… Да неужто… бедная! – сразу потемнев, откликнулась больная.
– Вот разрази меня Господь!.. С перепугу ль это она… Али назло, штобы свое доказать… взяла да и рассыпалась… да тройню… И все живы, слышь!
– А девку, што же… простили?
– Зачем ее прощать… Пороть еще будут, допарывать, как полегче ей станет! – успокоительно проговорила Салтыкова, не замечая, как волнуется больная. – Уж, что полагается, девка получит свое!..
– Нет… Нет… Не позволю… Простить… Не сметь!.. – порывисто заговорила Анна. – Бог за нее, видно, и меня карает… Пусть так ее сошлют, не бивши!.. Скажи там Маслову али…
– Да што ты, государыня-матушка! – наконец сообразила Салтыкова. – Што с тобою!.. Никак, и, слезки на очах! Скажу… скажу… Да ничего такого и не было!.. Все приврала я… Только бы потешить тебя малость!..
– Нет… Нет!.. Штобы не стегали… За меня пусть помолится девка та несчастная!.. Нет…
Нос в это время, видя, что Бидлоо настойчиво делает знаки Салтыковой, предлагая ей молчать, – снова выбежал из своего угла и завертелся перед постелью больной.
– Мьяу… мур-р… А Котишко-Мурлышко ноне по дворцу бегал… да што слышал, што видел!.. Мьяу!.. «Сам-то» с самою поссорился… Он-то ей…
Тут Нос, став на ноги, принял осанку Бирона и его голосом заговорил:
– «Надоела ты мне… Ишь, какая толстая да рябая! И прет тебя, разносит во все стороны!.. Лучше б ты хворала, а государыне быть здоровой!» А она ему этак-то на ответ: «Известно, окроме государыни, ты ни жены, ни детей знать-ведать не желаешь давно!» – «И не желаю! Она – солнце в небе, а ты – истинная мразь! – Это герцог-то ей. – Я моей царице по гроб слуга. А ты мне ненавистна, жена постылая! Марш на место, сторожи: как там все при ненаглядной нашей… Хорошо ли да ладно ли!..» И-и поплыла моя утица… так, вперевалочку… – подражая походке герцогини, заковылял по комнате Нос. – Чай, и сейчас сидит поблизу, носом своим толстым клюет спросонья. Уж и спать здорова, толстая корова!..
И он раскатился мелким смехом.
– Правда!.. Так ты все и слышал! – видимо довольная, спросила Анна, грозя шуту. – Чай, прилыгаешь больше половины, коли не все врешь!.. А…
– Вот провалиться бы мне на том месте! – с забавной ужимкой отскочив назад, забожился шут. Потом сразу очень яростно, но негромко, чтобы не потревожить больную, закричал, как пес, поставя свой хвост-опахало палкой… Тут же опустил его, выгнул спину горбом, зафыркал, замяукал, как озлобленная кошка, отбивающая пощечинами нападение сердитого пса.
Анна полуприкрытыми глазами несколько мгновений следила за потешной сценой, изображаемой любимцем-шутом, и вдруг мгновенно уснула, как это теперь с ней часто случалось.
– Мья-яу!.. Фр-р-р… фр-р-р… Гау-гау! – сразу понижая голос, продолжал все-таки гудеть Нос, зная, что если совершенно замолчать – больная немедленно проснется. И только постепенно он прекратил свое представление, а вместо него повела негромкую, монотонную речь Салтыкова, нижа одно за другим слова, почти лишенные всякого смысла, лишь бы в чутком сне Анна слышала чей-нибудь говор…
Бидлоо вернулся к своему фолианту. Нос – забился почти под полог, в ногах кровати. Жизнь снова замерла в слабо освещенной опочивальне, если не считать невнятного бормотанья Салтыковой, напоминающего скорее жужжанье усталого, отяжелелого шмеля, чем живую человеческую речь.
Как раз в эту минуту Бирон, пройдя потайным ходом, проложенным в толстой дворцовой стене, очутился перед незаметным отверстием, «глазком», проделанным так, что из темного, узкого хода можно было видеть, что делается в опочивальне у государыни.
Найдя, что здесь все в порядке, герцог заглянул во второй «глазок», выходящий в смежный с опочивальнею покой, где его жена и Анна Леопольдовна сладко дремали на своих местах, а цесаревна вела тихий разговор с леди Рондо.
Приложив ухо к незаметному отверстию в стене, скрытому снаружи складками штофных обоев, Бирон старался разобрать: о чем толкует Елизавета с англичанкой, пользующейся у нее особым доверием. Но те, вероятно памятуя, что во дворцах и «стены имеют уши», – вели беседу так негромко и однотонно, что ни единого слова не вырывалось поотчетливее из общего невнятного жужжания двух сдержанных женских голосов, поочередно нарушающих полную тишину слабо озаренного покоя.
С досадой повернувшись, временщик направил на темную стену прохода со стороны опочивальни тонкий луч света из потайного фонарика, который и озарил ему тесный, извилистый путь в этом коридоре, проделанном в толще стены.
Различив небольшую скобу, Бирон нажал на нее. Повернулась часть стены, образующая в то же время заднюю стенку большого шкафа, стоящего в дальнем углу опочивальни Анны.
Стенка, пропустив фаворита в пустое пространство шкафа, повернулась на шпиле, управляемая пружиной. Бирон сунул свой фонарик в карман, нащупал внутреннюю скобу дверей шкафа, нажал – и дверь распахнулась.
Шут своим тонким слухом первый услышал шорох за дверью шкафа, прикрывающего потайной ход. Но он, хорошо зная, чья фигура сейчас появится в раскрытых дверях, только постарался лучше укрыться за складками полога от гостя, питающего особенное нерасположение к горбуну.
Бидлоо, увидев неожиданно появившегося герцога, хотя не удивился и не испугался, также зная тайну шкафа, но невольно нервно вздрогнул. Встал и отвесил почтительный поклон подходящему фавориту.
Салтыкова, продолжавшая в полусне машинально бормотать свои россказни, увидя Бирона почти у самой постели, и не задалась вопросом: как он появился здесь. Она вскочила и тяжело проделала обычный придворный реверанс.
Бирон, едва кивнув головою в ответ на поклоны, подошел поближе к больной и стал прислушиваться к ее тяжелому дыханию. Потом обернулся к Бидлоо и с деланным участием, стараясь придать самое ласковое выражение своему гордому, надменному и грубому лицу, спросил по-немецки:
– Что… устали, любезный наш эскулапус!..
– Ваша высокогерцогская светлость… – начал было самым почтительным тоном опытный царедворец-врач.
– Э!.. Бросьте-ка вы эти величанья. Будем просто людьми! – нетерпеливо дернув головой, перебил Бирон. – То, что волнует и меня, и миллионы людей… здоровье нашей государыни – оно сейчас в ваших руках. Так что ж тут нам разводить церемонии… Сидите… И я сяду здесь! – опускаясь у столика и почти силой усаживая врача, продолжал Бирон. – А что книга?.. Пари держу: масонские бредни… Ну, так и есть! – кинув взгляд на заглавие и странные рисунки между текстом, решил герцог из конюхов и с дружественной укоризной покачал головой, глядя на смущенного врача.
– Неизменный мечтатель!.. Ну, а как наша дорогая государыня? – уже с настоящей тревогой быстро задал он вопрос, впиваясь взглядом в невозмутимого голландца. – Хуже… лучше ей?.. Только правду прошу говорить… Сейчас мне необходимо это знать для пользы государства. Понимаете. Говорите правду… хоть бы и самую плохую. Те не слышат! – кивая на Анну и Салтыкову, успокоил он смущенного таким прямым вопросом врача. – Они обе спят… Старуха бормочет что-то спросонок… А государыня, слышите, как дышит тяжело… Мне одному скажите… Больше никому… Что же вы молчите?.. Или… уж слишком дело плохо…
Врач медленно, печально покачал своей облыселой головой с выдавшимися висками.
– Во-о-от как!.. Сколько же может это еще протянуться?.. Недели две?.. Нет?.. – роняя вдруг голос, срываясь, словно захлебываясь, испуганный в свою очередь, забормотал Бирон, бледнея до самой шеи, такой красной и вздутой всегда. – Неделя?.. Того меньше! – уловив отрицательное движение, совсем растерянно проговорил он. – Три… четыре дня?.. Даже меньше?.. Сколько же?.. Говорите скорее, скорее, скорее! – совсем грубо ухватив за локоть старика, тормошил его растерянный временщик.
Голос его, хрипло сорвавшись, умолк. Только рука еще нервно теребила Бидлоо, но и пальцы вдруг застыли, едва тот заговорил медленно и печально:
– Сердце совсем плохое у нашей высокой больной, кое-как я поддерживаю его работу. Сами изволили видеть, ваша светлость: государыня то и дело засыпает… Очень плохой признак. Можно ждать каждую минуту несчастия… особенно если какое-нибудь волнение… Хотя мы всячески стараемся уберечь, как вы сами знаете, ваша светлость!.. Я понимаю: интересы государства требуют известных решений… Придется волновать больную таким неприятным для нее вопросом… И я ни за что не ручаюсь! – качая головою и разводя руками, в покорном отчаянии проговорил врач. – Ни за день… ни за один час не ручаюсь, ваша светлость!.. Единый Бог может явить здесь свое чудо… Вы видели, ваша светлость, вчера – ночь целая без сна… Такие муки!.. Нынешний тяжелый день. Надо было успокоить эти ужасные колотия… Если они еще вернутся… Господи, что мне делать! – с полным отчаянием беззвучно всплеснул руками этот всегда спокойный, сдержанный человек. – Верите, ваше сиятельства, если бы не эта вот микстура… последнее решительное средство… Без него, пожалуй, вчера уж наступил бы конец!.. Сердце плохое!.. Такое плохое – и в сорок пять лет!.. Удивительно: с чего бы это!.. Но вы видели, ваша светлость, я все, что мог…