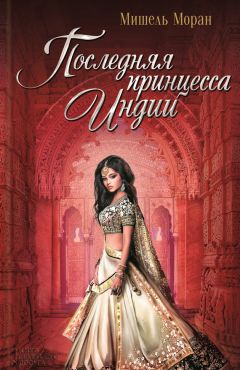– Это лошадь, – сообщил Шиваджи моей сестре. – Если хочешь, можешь подойди поближе.
Глаза сестренки округлились. Я была благодарна за любую отсрочку, лишь бы не залазить на это животное.
Шиваджи поднял сестру на руки и поднес к Раджу. Мерин втянул ноздрями воздух и фыркнул.
– Ты ему понравилась, – сказал Шиваджи. – Лошади фыркают только тогда, когда маленькие девочки им нравятся.
Ануджа рассмеялась. Она потянулась и погладила мерина по морде.
– Его мех щекочет.
– Не мех, а волосы. Мне кажется, он хочет, чтобы ты села на него верхом.
Шиваджи посадил Ануджу в седло и придерживал ее. Сестренка хихикала. Я почувствовала стыд – всего несколько секунд назад я боялась сделать то, что сейчас делала сестра.
– Вы представляете, что скажут соседи, если она свернет себе шею? Какая семья позволит девочке садиться на лошадь?
Заслышав бабкин голос, мы трое дружно обернулись. Она спешила по двору, тоже босая, без джути на ногах.
Шиваджи снял Ануджу с мерина и опустил на землю.
– Убирайся домой! – закричала бабка.
Сестра побежала в дом. Бабка перевела взгляд на меня.
– Сегодня вечером вы обе не будете ужинать.
– Это моя вина, – произнес Шиваджи.
– Это ее вина! – указывая на меня пальцем, сказала бабка. – Ты вознамерилась скакать по Джханси простоволосой, словно гулящая девка. Волосы будут развеваться у тебя на ветру, а на поясе будет висеть сабля.
Другие женщины на ее месте заковыляли бы обратно по утоптанной земле внутреннего двора, а бабка величественно, словно призрак, поплыла прочь, всем своим видом демонстрируя отсутствие любви и нежности к живым.
Я медленно подошла к мерину. Шиваджи сообщил, что на нем английское седло, и повторил, что мне нечего бояться. Вот только ни одно другое существо не вызывало в моей душе такого трепета, как эта лошадь. Мне трудно было собраться с мыслями. Я посмотрела в сторону и увидела Авани. Служанка вышла из дома, чтобы постирать наше постельное белье в бадье, стоящей на крыльце.
– Ты о чем-то задумалась.
– Извините.
Шиваджи сложил руки на груди.
– Скажи, Сита, – понизив голос, хотя никто, кроме служанки, не мог нас сейчас слышать, произнес он, – кто будет кормить семью, когда твой отец постареет и не сможет работать?
– Я.
– Только ты. Ты должна стать дургаваси. Твой отец дважды спас мне жизнь в Бирме. Я перед ним в долгу.
Папа никогда мне об этом не рассказывал. Мне хотелось задать Шиваджи вопрос, но в этот момент взгляд его был слишком суров.
На Раджа я забралась с третьей попытки. Я ощутила огромное облегчение, когда урок закончился, а мерин не попытался сбросить меня с седла.
В тот вечер папе в его спальню принесли горячую тахари[35], а нам с сестрой велено было уходить из кухни. Ануджа уставилась на горшок, полный риса и картофеля. Ноздри ее вдыхали запах чеснока и гороха.
– Я хочу есть.
Улыбка бабки была тонкой и острой, словно лезвие моего скимитара.
– Тебе следовало хорошенько подумать, прежде чем идти сегодня за этим грязным животным.
Ануджа не поняла.
– За что? – тонюсеньким голоском спросила она.
Я слегка подтолкнула сестру в сторону моей комнаты.
– Мы будем читать, – сказала я с напускной беззаботностью. – Пища для разума вместо пищи для живота.
Когда мы вошли в мою комнату, я взяла с полки «Сказки братьев Гримм». Это сокровище папа подарил мне на десятый день моего рождения, сказав, что книга из Джханси.
– «Золушку» или «Белоснежку»? – спросила я.
– «Рапунцель»!
Я принялась читать сказку, надеясь, что сестра забудет о голоде и заснет. Ее глазенки уже начали закрываться, а ресницы отбрасывали тени на щеки, когда бабка распахнула дверь. Она несла поднос, на котором стояла миска, прикрытая крышкой.
– Тахари! – воскликнула Ануджа.
Она бросилась к дади-джи и обняла ее за ноги.
– Прочь!
Сестра тотчас отпрянула. Это было не тахари. Миска для тахари была сравнительно небольшой.
– Встать.
Мы повиновались. Бабка подняла крышку и принялась сыпать ложкой соль из миски на пол.
– На колени.
Когда никто из нас не сдвинулся с места, бабка пригрозила:
– Поднимите подолы ваших курт и становитесь на колени, иначе я возьмусь за палку!
Я первой подняла подол и подала Анудже пример повиновения. Затем я стала коленями на соль. Когда Ануджа последовала моему примеру, ее нежной кожице сделалось больно, и сестра вновь поднялась.
– На колени!
Бабка схватила ее за руку и заставила опять опуститься коленями на соль. Не будь папа глухим, он бы услышал плач Ануджи, даже если бы сейчас стоял посреди соседского поля.
– Вы будете стоять, пока я не вернусь.
Слезы бежали ручейками по щекам Ануджи. Ее плач превратился в истерику.
– Дади-джи! – воскликнула я. – Она задыхается…
– Молчать! А не то я завяжу тебе рот! – пригрозила Анудже бабка.
Я посмотрела на сестру и округлила глаза, стараясь, чтобы она поверила: такое возможно.
Бабка вернулась спустя час. К тому времени Ануджа выплакала все слезы, но я знала, что не смогу рассказать об этом отцу. Если я проговорюсь, бабка будет терпеливо ждать, чтобы позже, когда меня примут в дургаваси рани, наказать сестру, вновь поставив ее на соль. А может, сделает с ней что-нибудь похуже. Я отнесла сестру на чарпаю в ее комнату и дала напиться воды.
– Почему дади-джи так меня ненавидит?
– Она тебя не ненавидит, – тихо произнесла я. – У нее была очень трудная жизнь. Это сделало дади-джи раздражительной и злой.
Я подняла одеяла и подождала, пока сестра под них заберется.
– Помнишь котенка, который приковылял к нам во двор в прошлом месяце?
– Тот, со сломанной лапкой?
– Да. Что случилось, когда ты хотела прикоснуться к его лапке?
– Он меня укусил.
– С дади-джи то же самое. Боль делает нас несчастными и злыми.
– А что у нее болит?
«Ничто», – пронеслось у меня в голове.
У нее был любящий сын, добрые соседи и достаточно еды.
– Ее боль не внешняя, как у котенка, она вот тут. – Я прикоснулась к груди Ануджи в области сердца. – Когда болит там, эту боль просто невозможно унять.
– Значит, она всегда будет злой?
Я задумалась. Может, лучше солгать? Но какой в этом смысл?
– Да, боюсь, что всегда…
1850 год
Когда в Барва-Сагаре женщина празднует свое шестнадцатилетие, обычно готовят праздничный обед, который она делит с мужем. Дом ее свекра украшают цветами. Муж по традиции делает ей небольшой подарок, например, преподносит новый гребень или нарядное сари. Поскольку дома свекра, украшенного розами, у меня не было, пришлось отпраздновать мое шестнадцатилетие, не получая, а даря подарки.
Ануджа стояла у моей кровати. Я вытащила из корзинки небольшой сверток, который спрятала еще несколько недель назад. Глаза девочки расширились. С болью в сердце я подумала, что передо мной стоит семилетняя копия мамы.
– Это тебе, – сказала я, протягивая сестре завернутый в ткань подарок.
Ануджа пощупала края подарка.
– Дневник? Как у тебя? – предположила она.
Я научила Ануджу читать и писать, когда ей исполнилось шесть лет.
– Разверни.
Девочка развернула ткань и взяла в руки книгу.
– Дневник! – воскликнула она.
Я отрицательно покачала головой.
– Полистай.
После того как Ануджа прочитала несколько строк, ее глаза наполнились слезами и покраснели. На этих страницах было записано все, что я помнила о маме. Там были хорошие и плохие воспоминания, записи о том, как мы сидели в тихом месте, а мама пела раги в честь Шивы.
– Спасибо, Сита! Спасибо! – Ануджа обняла меня так крепко, как только могла. – Но почему? Сегодня же твой день рождения!
– Мама-джи гордилась бы тобой. Мне хочется, чтобы ты побольше о ней узнала.
– Когда ты пройдешь все испытания, – вдруг произнесла Ануджа, – ты будешь приезжать ко мне в гости?
– Конечно, буду. Мы никогда надолго не расстанемся.
«Если вообще когда-либо будут эти самые испытания», – пронеслось в моей голове.
– Обещаешь?
Сестра смотрела на меня мамиными глазами.
– Да. А теперь пришло время пуджи.
Я провела ее в комнату для совершения пуджи и позвонила в колокольчик, чтобы боги узнали о нашем приходе. Затем мы опустились на колени перед ликами Дурги и Ганеши. Я произносила мантру в честь Дурги. Мы дотрагивались до ступней богов правой рукой, а затем кончиками пальцев касались наших лбов. Наконец я подожгла две палочки благовоний и помолилась о том, чтобы день прошел гладко и, как обычно, чтобы час состязания настал побыстрее.
Спустя несколько дней, когда я упражнялась в стрельбе из лука, боги вняли моим молитвам. Шиваджи принес в наш дом поразительную новость.
– Рани отправила на покой одну из дургаваси, – сообщил он. – Состязания назначены через двенадцать месяцев.