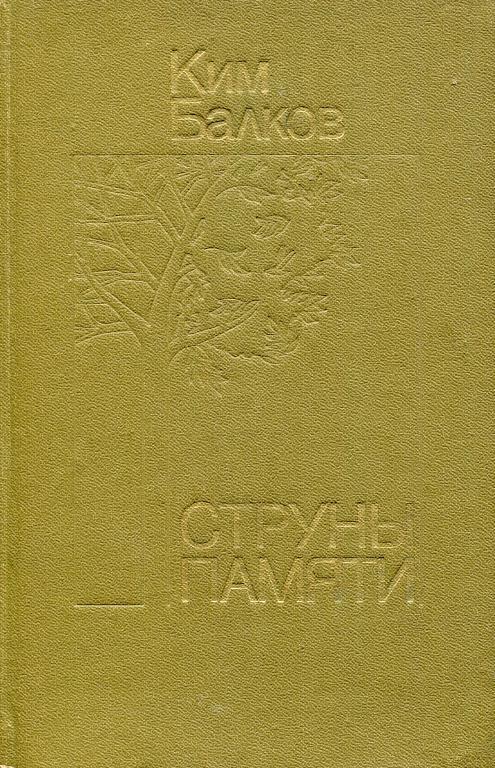ее на Итиль, но был поражен вражьими стрелами. Полегли и те, кто пошел с ним. Сгинул и Хельга.
Свенельд вернулся на отчину без славы и без своего Господина, и какое-то время не пользовался поддержкой великокняжьего Двора, его не любили и сородичи, но он не утратил могущества, и потому мало у кого рождалось желание потягаться с ним, а коль находился отрок, не привыкший ломать свычая дедичей, то и оказывался в воеводском узилище, куда и в дневную пору не проникал свет.
Шли дни, тягостные, придавленные неволей, тем более горестной, что не привыкли россы ходить под ярмом чужеземца. Они уминали минувшее, оттесняли его, и оставалось не так уж много тех, кто принимал участие в походах неудачливого Хельги, когда легковерный Игорь, воссевший на великокняжий стол, повелел Свенельду прибыть ко Двору, и там принят был ласково хозяином, хотя Ольга не хотела этого. Она так и не смирилась с повелением Великого князя, но старалась не выказывать своей неприязни к чуждому ей человеку. Да, все так и было, и Свенельд ничего не запамятовал. Может, потому он с такой легкостью и пошел встречь пожеланиям Песаха, что и сам стремился к этому и только ждал случая, чтобы перекинуть мостик к могущественному правителю Хазарии. Кто скажет, что стало тому причиной? Но так произошло. И однажды в просинец, легший на землю мягким и рыхлым белоснежьем, Свенельд увлечен был словесным узорочьем сладкоголосого раввина, прошлым летом прибывшего в стольный град, чтобы распутить там паутину для ловли заблудших душ. Однако ж сей муж не преуспел в своих деяньях. Не принялись они градским людом, остался тот равнодушен к его мудроречивым проповедям, сохраняя на сердце благость иную, другими ветрами привнесенную. Это увлечение Свенельда обернулось тем, что он оказался в Самватасе, на серых холмах, заселенном пришлым воинским людом. Уже пребывая в крепости, Свенельд не сразу понял, для чего он приехал сюда, и едва ли не со враждебностью взирал на то, что открывалось глазам, нутром чуя ту неприязнь, что отмечалась в лицах чужеземцев, когда они смотрели на него. Вдруг запамятовалась смута, что поменяла в душе, и про которую он не хотел бы забывать, полагая потребным вынести ее на свет Божий, чтобы укрепилась она и придавила тех, кто посмел сомневаться в нем. Свенельд не сказал бы, что это в нем от обиды на великокняжье окружение, как не сказал бы, что и не от нее. Было тут что-то от сути его, упорное, а вместе робеющее чего-то, может, своей временности на земле, от непостоянства собственных суждений. Знать бы, отчего в нем так понамешано, тогда и стало бы легче. Ан нет! Все мутит и мутит, и негде спрятаться от шальных, как если бы они вовсе не принадлежали ему, мыслей. «А что, я хуже, чем те, кто принял на себя великокняжью власть? Почему они, а не я?..» Он гнал от себя эти мысли, но они, отличаясь упрямством, не отступали и приходили даже в те поры, когда он отстранялся от мирских забот и старался ни о чем не думать.
Свенельд бродил ныне по лесным уремным местам и ничего не видел перед собой, даже и то, как отроки, следовавшие за ним неотступно, но так, чтобы он не замечал их присутствия, прятались за толстыми деревами, коль скоро он медлил, а потом опять поспешали за ним, мысленно досадуя на Господина, но и тогда не перешагивая ту черту, которая отведена воеводской волей. Всяк из них помнил, сколь суров Свенельд, если вдруг что-то ладилось не по его слову. Очень скоро свиноваченный оказывался в темном узилище и там претерпевал немало, прежде чем снова бывал явлен пред очи Господина. Нет уж, лучше справно и оглядно, чтоб не пристегнулось к суждению о тебе что-то неладное, исполнять службу, и за то благодаря Сварога, повелевающего людскими помыслами и направляющего их ко благу.
Дружинники поспешали за Господином, а сам он никак не мог отряхнуть сердечный гнет, и виделось такое, что он не хотел бы пускать и на порог своей памяти, но почему-то вдруг сделался неволен поступать согласно собственному разумению, и постыдное вставало перед ним в какой-то холодящей все в нем нагловатой наготе. И мнилось тогда, что он опять в шатре у властелина Хазарии, и тот насмешливо разглядывал его черными, чуть косящими глазами и говорил:
— А я знал, что ты придешь ко мне. Куда же тебе еще идти? Некуда.
Ему не хотелось соглашаться:
— Отчего же некуда? Я и теперь на Руси не последний воевода.
Молчал Песах, как если бы не слышал, и теперь уже смотрел куда-то сквозь него. Неприятно! Но да что делать, коль сам, по собственной охоте, приехал в Самватас? Ой ли?!.. Смутно. Смутно и неугадливо, как если бы вдруг заплутал в глухом лесу и не найдет обратной дороги.
Говорят волхвы: входящий в мир да увидит небо. О, если бы изначально эта мысль была близка Свенельду, может, не случилось бы того, что случилось, и он не ощущал бы теперь смуты на сердце, и не были бы чувства его так утеснены, как если бы он совершил что-то супротивное отчему краю. Ну, а произошло то, что убаюканный словами старого раввина он приехал в Самватас и там имел встречу с всемогущим Песахом. Песах говорил с ним и хитро смотрел на него, а вместе властно, и это не понравилось, хотел уйти, но отчего-то не смог. Что-то в нем сломалось, когда Песах сказал, впрочем, не прямо, исподволь, намеками, не спеша в подборе слов, что в те поры, когда принял смерть Хельга, он, Песах, постарался вывести малое число росских воинов из-под сабель агарян и дозволил им уйти в отчие земли, и сделал это, никакой пользы для себя не предвидя, по сердечному влечению, ибо он, Свенельд, не безразличен ему: слышал, с каким трепетом тот взирал на кипящую на базарах Итиля жизнь и понял про его тайные намеренья и хотел бы поддержать в нем дух, влекущий к истинной вере. Песах сказал только об этом и ничего не требовал, и малой службы, все же намекнул, что при надобности он или кто-то из его окружения обратится к нему, и надеется, что тот не откажет в просьбе. Вот, собственно, и все. Песах ушел из молельного иудейского дома, в стенах которого состоялась эта встреча, а Свенельд еще какое-то время оставался там и при тусклом свете миноры пытался что-то разглядеть в холодном неживом полумраке, но так ничего и